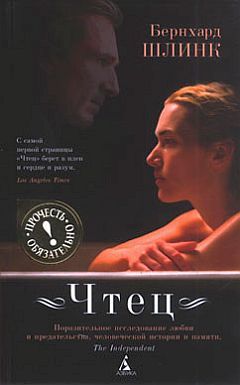Мать и дочь уцелели лишь потому, что случайно нашли единственно правильный выход. Когда среди женщин началась паника, обе бросились прочь от них. Они кинулись вверх, на хоры, побежали навстречу огню, но им было все равно, им хотелось остаться одним, хотелось вырваться из свалки орущих, давящихся, горящих тел. Хоры были настолько узкими, что падающие балки почти не задевали обеих. Мать и дочь стояли, прижавшись к стене, видя и слыша, как под ними бушует огонь. Днем они не решились спуститься вниз. Ночью побоялись оступиться на лестнице. На рассвете второго дня они все-таки вышли из церкви и встретили нескольких жителей деревни, которые сначала недоуменно и безмолвно разглядывали их, но потом дали еду, одежду и отпустили.
— Почему вы не открыли двери?
Председательствующий задал каждой из обвиняемых один и тот же вопрос. Каждая из обвиняемых дала один и тот же ответ. Не могла. Почему? Была ранена, когда бомба попала в дом священника. Или была в шоке после взрыва бомбы. Или вытаскивала после взрыва бомбы охранников и других надзирательниц из-под развалин дома, перевязывала их. О церкви не вспомнила, рядом с нею не была, пожара не видела и криков о помощи из церкви не слышала.
Каждой из обвиняемых председательствующий одинаково возразил, что донесение о случившемся можно понять иначе. Это была осторожная формулировка. Было бы неверно сказать, что в донесении, сохранившемся в архивах СС, событие изложено по-другому. Однако верно, что его можно было понять иначе. Донесение перечисляло поименно всех убитых в доме священника, всех раненых, всех занятых отправкой раненых в лазарет и всех сопровождающих. В нем упоминается, что часть надзирательниц осталась на месте, чтобы дождаться окончания пожара, по возможности воспрепятствовать его распространению, а также бегству заключенных в суматохе пожара Говорится и о гибели заключенных.
Фамилии обвиняемых не фигурировали в поименных списках, это свидетельствовало в пользу предположения, что они принадлежали к числу оставшихся надзирательниц. Оставшимся надзирательницам было приказано воспрепятствовать попыткам побега заключенных, следовательно, вытаскиванием раненых из-под развалин дома и их отправкой в лазарет дело еще не закончилось. Донесение можно было понять так, что оставшиеся надзирательницы дождались, пока церковь догорит, и не открывали двери. Из донесения можно было также понять, что обвиняемые принадлежали именно к числу оставшихся надзирательниц.
Нет, уверяли обвиняемые одна за другой, дело обстояло не так. Донесение искажает факты. Это явствует хотя бы из сообщения, будто оставшимся надзирательницам было приказано воспрепятствовать распространению пожара. Такой приказ был бы абсолютно бессмысленным, поскольку совершенно невыполнимым. Не менее бессмысленным был бы приказ воспрепятствовать попыткам побега заключенных в суматохе пожара. Какие попытки побега? Когда они кончили перевязывать своих раненых и получили возможность заняться заключенными, бежать уже было некому. Нет, донесение совершенно неверно излагает события той ночи, которая стоила им таких страданий и таких трудов. Каким же образом возникло неверное донесение? Этого они не знают.
Так продолжалось, пока очередь не дошла до стервозной толстухи.
— Вон ее спросите! — Она ткнула пальцем в сторону Ханны. — Вот кто писал донесение. Она во всем виновата, она одна. Нарочно наврала в донесении, чтобы свалить всю вину на нас.
Председательствующий задал Ханне вопрос о донесении. Но это был последний вопрос. А сначала он спросил:
— Почему вы не открыли дверь?
— Мы были… Мы не знали, что делать.
— Не знали, что делать?
— Ну да, одних убило, другие сбежали. Они сказали, что вернутся, после того как отправят раненых в лазарет, но они сами знали, что не вернутся, и мы знали. Может, они вообще не поехали в лазарет, ранения были не такими уж тяжелыми. Мы хотели поехать вместе с ними, но нам сказали, что раненым не хватает места, а кроме того… кроме того, женщины им только мешали. Не знаю, куда они делись.
— Что делали вы лично?
— Мы растерялись. Все произошло так быстро, дом священника загорелся, колокольня тоже. В это время мужчины и машины еще были с нами, потом они вдруг уехали. Мы остались одни с теми женщинами в церкви. Нам оставили кое-какое оружие, но что в нем было толку — обращаться мы с ним не умели, да и было нас слишком мало. Как бы мы стали охранять такое количество заключенных? Колонна получалась довольно длинная, для охраны нас, нескольких женщин, все равно бы не хватило. — Ханна помолчала. — Потом начались крики, стало совсем ужасно. Если бы открыли двери и все бросились бы…
Несколько мгновений председательствующий ждал продолжения, затем спросил:
— Вы испугались? Испугались, что заключенные нападут на вас?
— Нападут?.. Нет, но как было навести порядок? Началась бы паника, мы бы с ней не справились. А если бы они решили бежать…
Председательствующий опять подождал, но Ханна так и не договорила фразу до конца.
— Вы боялись, что за непредотвращение побега вас арестуют, осудят и расстреляют?
— Мы были обязаны не допустить побега. Ведь мы отвечали за них… Все время охраняли их, и в лагере, и по пути. Мы охраняли их, чтобы они не убежали, это была наша работа. Поэтому мы и не знали, что делать. Не знали, сколько женщин останется в живых в ближайшие дни. Столько уже умерло, а остальные совсем ослабели…
Ханна чувствовала, что ее показания складываются не в пользу обвиняемых. Но она не могла вести себя иначе. Она могла только попытаться быть поточнее, объяснить все получше. Но чем больше она старалась, тем более усугубляла положение обвиняемых. Вконец растерявшись, она опять обратилась к председательствующему:
— А что бы вы сделали на нашем месте?
Но на этот раз она знала, что не получит ответа. Да она его и не ждала. Никто его не ждал. Председательствующий молча качнул головой.
Дело было не в том, что никто не мог представить себе той растерянности, беспомощности, о которой говорила Ханна. Ночь, холод, снег, пожар, крики женщин в церкви, исчезновение тех, кто отдавал приказы надзирательницам, — конечно, ситуация была сложной. Но может ли сложность ситуации хотя бы отчасти оправдать ужас случившегося, всего того, что было сделано или не было сделано обвиняемыми? Как если бы речь шла об автокатастрофе, произошедшей холодной зимней ночью, когда растерянный водитель стоит перед разбитой машиной, ранеными людьми и не знает, что предпринять. Или если бы речь шла о конфликте одного долга с другим? Так можно было бы представить себе то, о чем говорила Ханна, но никто не хотел этого делать.
— Это вы написали донесение?
— Мы все вместе решали, что написать. Мы не хотели, чтобы пострадали охранники, которые сбежали. Но не хотели и на себя брать вину.
— Вы сказали, что решали все вместе. А кто писал?
— Ты! — Толстуха вновь ткнула пальцем в сторону Ханны.
— Нет, я не писала. Разве важно, кто писал?
Прокурор предложил вызвать эксперта для сличения почерка обвиняемой с почерком, которым написано донесение.
— Мой почерк? Вы хотите сличать мой почерк? Председательствующий, прокурор и защитник Ханны принялись спорить, изменяется почерк с течением времени или нет и можно ли идентифицировать его по прошествии стольких лет. Прислушиваясь к спору, Ханна становилась все более встревоженной, несколько раз она порывалась что-то возразить или спросить. Наконец она сказала: — Не надо эксперта. Я признаю, что донесение написано мной.
Пятничных занятий нашего семинара я не помню. Я могу восстановить в памяти события судебного процесса, но совершенно забыл, как мы разбирали его с точки зрения юридической науки. Что мы обсуждали? Что хотели выяснить? Чему учил нас профессор?
Зато мне запомнились воскресные дни. Время, проведенное в суде, заново пробудило во мне тягу к природе, обострило вкус к ее краскам и запахам. По пятницам и субботам мне приходилось наверстывать упущенное за неделю занятий, чтобы не отставать от программы. Зато по воскресеньям я выбирался на прогулки.
Хайлигенберг,[56] церковь Святого Михаила,[57] Башня Бисмарка,[58] Дорожка философов,[59] берег реки — маршрут моих еженедельных прогулок почти не менялся. Мне хватало того разнообразия, которое я наблюдал в набирающей с каждой неделей силу зелени, в видах рейнской долины, то подрагивающей в жарком мареве, то покрытой поволокой дождя под темными грозовыми облаками; в лесу я наслаждался запахом ягод и трав, особенно душистых на солнцепеке, и ароматом земли, прошлогодней прелой листвы, особенно пахучей после ливней. Да мне и не нужно большого разнообразия. Достаточно, если очередная вылазка заведет меня чуть подальше, чем предыдущая, а в отпуске я предпочитаю возвращаться в те места, где уже побывал раньше, если мне там понравилось; когда-то мне казалось, что необходимо затевать смелые путешествия, и я заставлял себя ехать на Цейлон, в Египет или Бразилию, но со временем опять отдал предпочтение знакомым местам, чтобы познакомиться с ними еще ближе. Здесь мне видно больше, чем там.