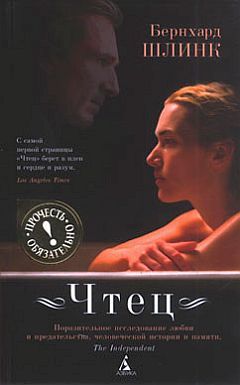Да, она боролась за это, но не желала платить за успех ценой уличения в неграмотности. Вероятно, она не хотела бы, чтобы я купил ей этим разоблачением несколько лет свободы. На такую сделку она бы могла пойти и сама, однако не пошла, не пожелала. Значит, была готова заплатить за свой выбор несколькими годами тюрьмы?
Но разве не была такая цена неоправданно высокой? Зачем она цеплялась за этот жалкий обман, почему нельзя было отказаться от него, перебороть себя? Ведь энергии, потраченной на поддержание этого обмана, с лихвой хватило бы на то, чтобы научиться читать и писать.
Я не раз пытался тогда заговорить с друзьями на эту тему. Представь себе, что человек сознательно губит себя, а ты можешь его спасти, — стал бы ты его спасать? Представь себе, что человеку предстоит операция, а он принимает наркотики, из-за которых опасно делать анестезию, но он стыдится признаться, что принимает наркотики, и ничего не говорит анестезиологу — ты бы выдал его врачу? Представь себе, что идет суд над человеком, которого ждет суровый приговор, если он не признается, что он левша и потому не мог совершить преступление, совершенное правшой, но он стыдится признаться в том, что он левша — ты сообщил бы судье правду? Или представь себе, что он голубой, но стыдится в этом признаться, хотя речь идет о преступлении, которое не могло быть совершено голубым. Дело не в том, надо ли стыдиться левше или голубому самого себя, — просто представь себе, что подсудимый чего-то ужасно стыдится.
Я решил поговорить с отцом. Нет, особенной близости между нами не существовало. Мой отец был человеком замкнутым. Он не мог поделиться с нами, детьми, своими чувствами, как не мог разделить и наших чувств. Долгое время мне казалось, что за этой скрытностью таятся несметные душевные богатства. Но позднее пришли сомнения. Возможно, в юности и в молодости его внутренняя жизнь была действительно богата душевными переживаниями, но поскольку они не находили выражения, то с течением лет все зачерствело и умерло.
Мне хотелось поговорить с ним именно потому, что между нами сохранялась определенная дистанция. Я хотел побеседовать с философом, написавшим книги о Канте и Гегеле, которых, как мне было известно, занимали вопросы этики. Я полагал, что он сумеет рассмотреть мою проблему абстрактно, не смущаясь, подобно моим друзьям, недостатками выдуманных мною примеров.
Когда мы хотели поговорить с отцом, он назначал нам, будто своим студентам, точное время для беседы. Он работал по большей части дома, а в университет отправлялся только для чтения лекций и проведения семинаров. Чтобы побеседовать с ним, его коллеги и студенты приходили к нам домой. Помню целую очередь студентов, которые подпирали стену в коридоре, ожидая приема; одни читали, другие рассматривали висевшие в коридоре ведуты, третьи пялились в пустоту, все молчали и лишь бормотали ответные приветствия, когда мы, дети, проходя по коридору, здоровались с ними. Нам же назначенной отцом беседы ждать в коридоре не приходилось. Но и мы должны были в определенное время постучать в его кабинет, после чего отец приглашал зайти.
Я помню два отцовских кабинета. Окна первого, в котором Ханна проводила пальцем по корешкам книг, выходили на улицу и соседние дома. Окна второго глядели на рейнскую равнину. Дом, куда мы переехали[60] в начале шестидесятых годов и где продолжали жить родители, когда мы, дети, повзрослев, разошлись, стоял над городом на склоне холма. В обоих домах окна не столько открывали пространство внешнего мира, сколько висели в комнатах вроде картин. Отцовский кабинет напоминал барокамеру, в которой книги, рукописи, мысли, сигарный дым создавали иное атмосферное давление, чем существовавшее вовне. Эти кабинеты были мне хорошо знакомы и в то же время не переставали казаться чужими.
Отец выслушал изложение моей проблемы в абстрактном варианте, проиллюстрированном выдуманными примерами.
— Это имеет отношение к судебному процессу, не так ли? — спросил он, но тут же качнул головой, чтобы показать мне, что не ожидает ответа, ничего не выспрашивает и не хочет знать ничего такого, чего я не собираюсь рассказать сам.
Он сидел, наклонив голову в сторону, обхватив руками подлокотники, задумавшись. Он не глядел на меня. Я смотрел на его седые волосы, как всегда, плохо выбритые щеки, на глубокие морщины, прорезавшие переносицу или спускавшиеся от крыльев носа к уголкам рта. Я ждал.
Он начал издалека. Он говорил о свободе и достоинстве личности, о человеке как субъекте, к которому непозволительно относиться как к объекту.
— Помнишь, будучи еще маленьким, ты сильно возмущался, когда мама решала за тебя, что для тебя хорошо, а что плохо? Даже с детьми это целая проблема. Философская проблема, хотя философия не занимается детьми. Она уступила их педагогике, что не пошло на пользу детям. Философия забыла о детях, — он улыбнулся мне, — навсегда забыла, а не только на время, как это случалось со мной по отношению к вам.
— Но…
— Что же касается взрослых, тут вообще ничем нельзя оправдать, когда кто-то решает за других, что для них хорошо или плохо.
— Даже если потом выяснится, что это делалось для их же собственного блага?
Он покачал головой:
— Мы говорим не о благе, а о достоинстве и свободе личности. Ведь ты и маленьким хорошо понимал эту разницу. Мама всегда оказывалась права, но тебя это не утешало.
Сегодня я люблю вспоминать этот разговор. Я было забыл о нем, но, когда отец умер, я стал искать в памяти воспоминания о каких-либо хороших событиях, связанных с ним, о наших беседах. Вспомнив этот разговор, я с удивлением и радостью начал вдумываться, вслушиваться в его содержание. В тот раз отцовская смесь из абстракции и наглядных примеров озадачила меня. Но потом до меня дошел смысл сказанного, который заключался в том, что я не должен был обращаться к судье, даже не имел на это права, отчего я почувствовал облегчение.
Отец внимательно посмотрел на меня.
— Нравится тебе такая философия?
— Ну, в общем-то, я не знал, следует ли что-либо предпринимать в такой ситуации, которую я описал; меня беспокоила необходимость действовать, а если выходит, что вмешиваться нельзя, то совесть… то на душе…
Я не мог подобрать подходящего слова. Чистая совесть? На душе спокойнее? Легче? Слову «легче» не хватало чувства моральной ответственности. В словах «чистая совесть» была эта моральная ответственность, но я не мог говорить о чистой совести.
— На душе легче? — подсказал отец.
Я кивнул и одновременно пожал плечами.
— Нет, у твоей проблемы нет легкого решения. Конечно, надо действовать, если описанная тобой ситуация предполагает вытекающую из обстоятельств или принятую на себя ответственность. Если знаешь, что для другого человека есть благо, а он не видит этого, надо попытаться открыть ему глаза. Последнее слово должно остаться за ним, но надо с ним говорить, с ним самим, а не за его спиной с кем-то другим.
Поговорить с Ханной? Но что сказать ей? Что я разгадал ее обман? Что ей вот-вот придется заплатить всей жизнью за этот глупый обман? Что он не стоит такой жертвы? Что надо бороться за то, чтобы не просидеть в тюрьме дольше положенного срока, потому что потом своей жизнью еще можно воспользоваться для множества разных дел? Каких, собственно? И что делать ей дальше со своей жизнью? Имел ли я право лишать ее этого обмана, этой иллюзии, не открывая новой жизненной перспективы? Я не знал, какой может быть ее более или менее длительная жизненная перспектива, и не знал, с чем прийти к ней, если для начала придется сказать — мол, после содеянного вполне справедливо, что на ближайшее, и не только ближайшее, время ее жизненной перспективой станет тюрьма. Я не знал, с чем прийти к ней и как я вообще сумею ей что-либо сказать. Я вообще не представлял, как сумею к ней прийти. Я спросил отца:
— А что будет, если не можешь поговорить с тем человеком?
В глазах отца появилось сомнение, и я сам понял, что вопрос был уже неуместен. Морализировать больше не стоило. Пора было на что-то решаться.
— Я не сумел тебе помочь. — Отец встал, я тоже. — Нет, можешь не уходить, у меня просто заболела спина. — Он стоял, сгорбившись и прижав ладони к почкам. — Не скажу, что расстроен тем, что не сумел тебе помочь. Это я говорю тебе как философ, если ты обратился ко мне в этом качестве. А вот как отцу мне невыносима мысль, что я не могу помочь собственным детям.
Я ждал, но он ничего не добавил. Мне подумалось, что он не слишком утруждает себя разговором со мной; я знал, когда ему следовало побольше заниматься нами и чем он мог нам тогда помочь. Но потом я подумал, что он тоже знает это и, наверное, действительно сильно переживает. Так или иначе, сказать мне ему было нечего. Я смутился и почувствовал, что он тоже смущен.