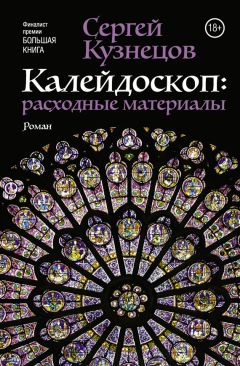Молодая женщина идет по длинному коридору. Наверное, какой-то дворец – стены убраны гобеленами, расписные балки потемнели от времени. Она одета по моде семидесятых – клешеные джинсы, высокие сапоги, просторная хлопковая рубашка в этническом стиле. Камера движется следом, в нескольких метрах.
В конце коридора женщина распахивает тяжелые двери – на мгновение яркий свет ослепляет зрителя.
Крупный план: светлые волосы, чуть припухшие губы, широкие скулы. Рука поправляет локон, камера отъезжает, мы видим, что женщина беременна. Она проходит вдоль стен, задрапированных темным бархатом, открывает еще одну дверь. Большая ванная комната, в центре, на возвышении – старинная чугунная ванна на львиных лапах. Женщина включает воду, садится на мраморную скамью и снимает сапоги.
Вода воронкой уходит в слив.
Босые ноги. По тому, как сжимаются пальцы, чувствуется холод каменных плит. Женщина переступает через упавшие на пол джинсы.
Крупным планом – рука пробует воду.
Резкий звук, женщина отдергивает руку.
– Сделай потише, – говорит Саманта, – разбудишь Джонни.
– Да не волнуйся, он спит как убитый, – отвечает Алекс.)
Во весь экран – голубые, широко распахнутые глаза.
Дверь ванной комнаты.
Босая нога на полу, когти льва почти касаются пальцев.
Женщина выключает воду.
Дверь ванной комнаты.
Тишина.
Тихий голос говорит: One Two Three.
С первыми аккордами «Марсельезы» дверь распахивается.
Громкий крик. Крупный план раскрытого рта, искаженное лицо, вылезшие из орбит голубые глаза.
Камера резко отъезжает – женщина кричит, держась за край ванны Love, love, love – вступает голос.
Рука в черной кожаной перчатке хватает женщину за плечо.
Love, love, love.
Другая – или та же? – рука задирает подол длинной рубашки.
Love, love, love.
Треск рвущейся ткани. Светлый лоскут падает в ванну, намокает, темнеет, погружается в воду, исчезает.
There's nothing you can do that can't be done, – поет Джон Леннон.
Женщина выбегает из ванной. Рубашка разорвана, плечо и часть спины обнажены.
Широко раскрытый безмолвный рот: крик заглушает музыка.
Nothing you can sing that can't be sung.
Женщина бежит к приоткрытым дверям коридора, откуда вышла в начале эпизода. Большой живот ей мешает.
Nothing you can say…
Двери распахиваются раньше, чем женщина добегает до них, – мы видим со спины темную фигуру, выходящую навстречу.
…but you can learn how to play the game
Крупным планом – рука с ножом.
– IT'S EASY!
Руки в черных перчатках срывают с женщины рубашку.
There's nothing you can make…
…валят жертву на пол.
…that can’t be made.
Обнаженная фигура, распластанная на полу, –
No one you can save…
– черные перчатки держат руки и ноги.
…who can’t be saved.
Камера приближается к животу.
Nothing you can do…
Кажется, что младенец шевелится внутри.
…but you can learn
Голубые глаза, наполненные слезами.
…how to be you
Рука с ножом опускается…
in time
…вспарывая живот.
– IT’S EASY!
Саманта зарывается головой в постель, накрывается подушкой, затыкает уши руками. Она не хочет видеть, не хочет слышать – но Алекс разворачивает ее к экрану (нож поднимается и опускается, кровь на мраморных плитах, искаженное лицо, на секунду – обнаженная грудь), отнимает руки от ушей (Джон Леннон продолжает петь all you need is love), шепчет на ухо:
– Смотри, я прошу тебя, смотри!
Тогда Саманта закрывает глаза и остается только:
There's nothing you can know that isn't known.
Nothing you can see that isn't shown –
И звук обрывается.
– Вот и всё, – говорит Алекс.
Саманта открывает глаза. На экране, застывшим стоп-кадром, в луже крови на полу – скрюченный зародыш, почти ребенок.
Алекс все еще сжимает ее руки.
– Посмотри, – говорит он, – это – я.
Саманта смотрит на Алекса.
– Ну, некоторым образом. Эта женщина – моя мать. Беременная мной. В 1975 году, в Риме. Ты все хотела с ней познакомиться.
– Ее… убили? – шепчет Саманта.
– Конечно нет, – говорит Алекс. – Это же только кино, глупенькая.
Он не улыбается.
Утром они молча сидят в машине. Саманта забилась в угол, Алекс не отрываясь смотрит на дорогу. Только Джонни что-то бормочет под нос на заднем сиденье.
Зачем я ей показал? – думает Алекс. – Она же все равно ничего не поймет, как ей понять? Она даже мяса не ест, даже рыбы. Вот сидит и придумывает, как бы ей это забыть. Был бы я негр, она бы сказала себе, что нет насилия, а есть травма колониализма. А так даже не скажешь, что это какая-нибудь постсоветская травма, – я же в СССР никогда не жил и русским себя не чувствую.
Просто Саманта ничего не понимает ни про насилие, ни про семидесятые годы.
Все, что случилось за последние двадцать пять лет, уже было тогда в Италии. Еще не открыли СПИД, но уже знали, что секс убивает. Русские еще не вошли в Афганистан, ЦРУ еще не вскормило «Аль-Каиду», но бомбы террористов держали в ужасе всю страну.
Шестидесятые пообещали нам любовь. Семидесятые объяснили, что единственная любовь, которой мы достойны, – любовь к насилию и жестокости.
Моя мать, моя бедная мама, беременная, одна-одинешенька в чужом городе, только что из Москвы, без денег, почти без языка – но все равно каким-то чудом выбрала лучший фильм, в каком только могла сыграть: фильм про то, как появилось на свет наше поколение. Мы – дети психоделического насилия. Никакой власти цветов, никакого лета любви. Я был мертв еще до рождения, я еще до рождения знал, в каком мире мне предстоит жить.
Как объяснить Саманте? – думает Алекс. – Нужно ли объяснять?
(перебивает)
Говорите, «дети психоделического насилия»? У нас без всякой психоделики иногда такие истории случаются!
Была у меня знакомая девушка-кинопродюсер. Красивая, ухоженная, по-европейски образованная. Артхаус. Фестивальное кино. Интересные поклонники.
Однажды она решила снять фильм про русскую глубинку. Молодой модный режиссер нашел подходящую деревню. Съемочная группа расселилась у местных жителей. Девушка-продюсер тоже решила приехать.
Вот сидит она в санях, в белоснежной шубе. Зима, снежок под полозьями хрустит, березы отбрасывают голубоватые тени. Возница в треухе, лошадка трусит… Идиллия.
Подъезжают они к деревне, навстречу бежит собака. Лает что есть силы. Лошадь нервничает, шарахается.
И тут возница вынимает из-под сиденья топор и одним движением разрубает собаку пополам. Кровь – фонтаном! Сани – в крови. Белоснежная шуба – в крови. Сама продюсер – в крови.
Возница говорит извините, девушка берет себя в руки, спокойно отвечает:
– Ничего страшного.
Наступает вечер. Девушка переоделась. Порыдала, пока никто не слышал. Пришла к хозяину дома.
– Наверное, – говорит, – надо как-то с владельцем собаки объясниться…
– А чего там объясняться? – отвечает хозяин. – Мишка уже с бутылкой к нему пошел, они эту собаку сейчас сварят и съедят под водочку!
Зачем он это сделал? – думает Саманта. – Как он мог так со мной поступить? Зачем он показал мне этот больной фильм? Ну и что, что там снималась его мать? И как я теперь буду с ней говорить, когда познакомлюсь?
Конечно, я не буду с ней знакомиться, еще не хватало! Вот только приедем в Америку – и расстанемся. Я ему этого никогда не прощу. Это было изнасилование, да, изнасилование на свидании. Заставить меня смотреть эту мерзость… сразу после того, как мы были вместе. Настоящее изнасилование. Он воспользовался тем, что мне было некуда деться, да!
Я просила сделать тише, чтобы не разбудить Джонни, а он сказал: «Не волнуйся, он спит как убитый», словно я прикрываюсь ребенком!
А если я забеременела? Что делать? Второй ребенок без отца? Но все равно, решено: жить с Алексом я не смогу. Мне теперь даже смотреть на него противно.
Боже, почему мне всегда попадаются такие уроды?
Саманта в самом деле не смотрит на Алекса – только в окно. На горизонте остовом динозавра – римский акведук в золотистом солнечном сиянии.
Зачем? Зачем? – думает Саманта. – Ну да, его мама была одна в Риме, без денег в чужом городе, ну да, она снялась в этом чудовищном фильме – но ведь потом она приехала в Америку, нашла работу, воспитала сына, дала ему образование… прожила достойную жизнь. Подумаешь, когда-то в молодости снялась в итальянском порнотрэше! Зачем она сыну-то об этом рассказала?
Русские все-таки загадочный народ.
Как он говорил вчера: шестидесятые пообещали нам любовь, семидесятые сдержали обещание и научили любить насилие.
Я родилась в Огайо, шестидесятые были в самом разгаре, но, честное слово, там не было никакого обещания любви. Был страх перед наказанием, страх перед войной, страх перед кризисом и безработицей – вот и всё.