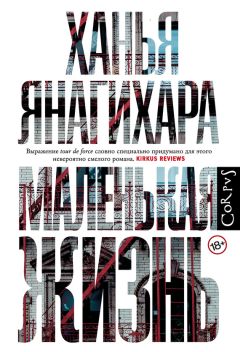– Без них я спрашиваю себя: а зачем это все? Вы что, никогда об этом не беспокоитесь? Как нам знать, имеет ли наша жизнь смысл?
– Прости, Мэл, – сказал Ричард, доливая ему остатки вина из бутылки, пока Виллем открывал следующую, – но, по-моему, это оскорбительно. Ты хочешь сказать, что наша жизнь менее осмысленна из-за того, что у нас нет детей?
– Нет, – сказал Малкольм и задумался. – Ну не знаю, может быть.
– Я знаю, что моя жизнь осмысленна, – сказал вдруг Виллем, и Ричард ему улыбнулся.
– Да твоя-то, конечно, осмысленна, – сказал Джей-Би. – Ты делаешь что-то, что люди реально хотят видеть, не то что я, и Малкольм, и Ричард, и Генри.
– Люди хотят видеть то, что мы делаем, – обиженно сказал Желтый Генри Янг.
– Я имел в виду людей за пределами Нью-Йорка, Лондона, Токио и Берлина.
– А, вот каких людей. Да кому ж они сдались.
– Нет, – сказал Виллем, когда смех затих. – Я знаю, что моя жизнь осмысленна, потому что… – и тут он осекся, смутился, и продолжил не сразу, – потому что я хороший друг. Я люблю моих друзей, и забочусь о них, и думаю, что приношу им счастье.
Наступила тишина, и они с Виллемом несколько секунд смотрели друг на друга через стол, и вся квартира, все остальные как будто растворились – остались два человека, каждый на своем стуле, и вокруг них пустота.
– За Виллема! – сказал он наконец и поднял свой бокал, а вслед за ним – все остальные.
– За Виллема! – повторили они, и Виллем улыбнулся ему.
В этот же вечер, когда все ушли, а они лежали в постели, он сказал Виллему: ты прав.
– Я рад, что ты понимаешь, как осмысленна твоя жизнь, – сказал он. – Я рад, что мне не надо тебя в этом убеждать. Я рад, что ты понимаешь, какой ты прекрасный.
– Но твоя жизнь точно такая же осмысленная, как моя, – сказал Виллем. – Ты тоже прекрасный. Ты разве этого не знаешь, Джуд?
Тогда он пробормотал что-то неопределенное, что Виллем мог по идее воспринять как согласие, но Виллем уснул, а он лежал с открытыми глазами. Ему всегда казалось, что размышлять об осмысленности собственной жизни значит беситься с жиру, что это скорее привилегия. Он не считал свою жизнь осмысленной, но его это не очень беспокоило.
И хотя он не растравлял себя мыслями об осмысленности своей жизни, он всегда недоумевал, почему он – и многие другие – вообще живут на свете; иногда убедить себя в необходимости этого было так непросто, и все же столько народу, столько миллионов, миллиардов человек живут в нищете, какой он не может себе даже представить, страдая от лишений и болезней, оскорбительных в своей чудовищности. Но живут, и живут, и живут себе. Может быть, человек продолжает жить не в силу сознательного выбора, а просто потому, что так решила эволюция? Есть ли что-то в самом сознании, в созвездии нейронов, плотных и мозолистых, как сухожилие, что не дает людям пойти на тот шаг, который так часто диктует логика? И все же этот инстинкт преодолим; он сам однажды его победил. Но что с ним случилось потом? Ослаб он или укрепился? Может ли он до сих пор выбирать, что ему делать со своей жизнью?
После больницы он знал, что нельзя убедить человека, чтобы тот продолжал жить ради себя самого. Но он часто думал, что более эффективным терапевтическим приемом было бы настойчиво напоминать людям о необходимости жить ради других; для него это всегда был самый убедительный аргумент. И в самом деле – у него были обязательства перед Гарольдом. И перед Виллемом. И если они хотят, чтобы он жил, он будет жить. Тогда, с трудом переваливаясь из одного дня в следующий, он не осознавал своей мотивации, но теперь понимал, что сделал это для них и этим своим редким бескорыстием для разнообразия может гордиться. Он не понимал, почему они хотят, чтобы он жил дальше, но понимал, что хотят, и он так и сделал. В конце концов он научился снова получать от жизни удовлетворение, даже радость. Но начиналось это по-другому.
А теперь жизнь снова кажется ему все более трудной, каждый день – невыносимее предыдущего. В центре каждого его дня стоит дерево, черное, умирающее, с единственной торчащей справа веткой, как одинокий протез пугала, и вот на этой ветке он и висит. Над ним всегда собирается дождь, поэтому ветка вечно мокрая. Но он держится за нее, хотя и очень устал, потому что под ним – дыра в земле, такая глубокая, что дна ее не видно. Ему очень страшно отпустить ветку, потому что он провалится в эту дыру, но он знает, что рано или поздно сделать это придется, он должен будет это сделать: он очень устал. Его хватка слабеет понемногу, по чуть-чуть, с каждой неделей.
Поэтому с чувством сожаления и вины, но и с чувством неизбежности он нарушает данное Гарольду обещание. Он нарушает его, когда говорит Гарольду, что его по делам посылают в Джакарту, так что он пропустит День благодарения. Он нарушает его, когда начинает отращивать бороду в надежде скрыть свой изможденный вид. Он нарушает его, когда говорит Санджаю, что все в порядке, просто желудочный грипп. Он нарушает его, говоря секретарше, что обед приносить не нужно, он купил еды по дороге на работу. Он нарушает его, когда целый месяц отменяет все встречи с Ричардом, Джей-Би и Энди, ссылаясь на гору работы. Он нарушает его каждый раз, когда позволяет непрошеному голосу прошептать ему в ухо: уже недолго осталось, уже недолго. Ему хватает здравого смысла понять, что он не сможет буквально заморить себя голодом, но тем не менее он рассчитывает, что придет день – никогда он не был так близок, – когда силы покинут его настолько, что он оступится, упадет и разобьет голову о бетонный пол в подъезде на Грин-стрит, когда он подцепит вирус и у него не хватит ресурсов с ним бороться.
Одна из его выдумок – правда: работы у него действительно слишком много. Через месяц апелляционные прения, и он рад, что может проводить так много времени в «Розен Притчард», где с ним никогда не случалось ничего плохого, где даже Виллем не рискует встревожить его своим непредсказуемым появлением. Однажды ночью он слышит, как Санджай идет мимо его кабинета и бормочет себе под нос: «Черт, она меня убьет»; он поднимает глаза и видит, что уже не ночь, а день и Гудзон окрашивается в мутно-оранжевый цвет. Он это замечает, но ничего не чувствует. Здесь его жизнь приостанавливается; здесь он может быть кем угодно, где угодно. Он может оставаться до любого позднего часа. Никто его не ждет, никто не расстроится, если он не позвонит, никто не разозлится, если он не придет домой.
В пятницу, незадолго до процесса, он работает допоздна, и одна из секретарш заглядывает и говорит, что к нему пришел посетитель, некий доктор Контрактор, пропустить его наверх? Он замирает, не зная, что делать; Энди ему звонил, а он не перезванивал, и он понимает, что Энди так просто не уйдет.
– Да, – говорит он ей. – Пусть идет в юго-восточную переговорную.
Он ждет в этой переговорной – самой укромной, без окон, и когда Энди входит, он видит, что его губы напрягаются, но они пожимают друг другу руки, как незнакомцы, и только когда секретарша уходит, Энди встает и подходит к нему.
– Ну-ка встань, – приказывает Энди.
– Не могу, – отвечает он.
– Почему?
– Ноги болят. – Но это неправда. Он не может встать, потому что его протезы больше не держатся. «Что хорошо в этих протезах – так это что они очень чувствительные и легкие, – сказал ему протезист во время примерки. – Что плохо – допуск у этих лунок крошечный. Потеряете или наберете больше десяти процентов веса – в вашем случае, значит, четырнадцать – пятнадцать фунтов, – и придется либо регулировать вес, либо делать новую пару. Так что очень важно поддерживать стабильный вес». Последние три недели он не вылезает из инвалидного кресла, и хотя продолжает надевать свои ноги, они служат только для виду, для заполнения штанин; они перестали подходить, использовать их нельзя, а он слишком устал, чтобы идти к протезисту, слишком устал, чтобы вести с ним неизбежный разговор, слишком устал, чтобы придумывать объяснения.
– Сдается мне, что ты врешь, – говорит Энди. – Сдается мне, ты так похудел, что с тебя протезы сваливаются, да? – Но он не отвечает. – Ты насколько похудел, Джуд? Когда мы в последний раз виделись, ты уже сбросил двенадцать фунтов. А теперь сколько? Двадцать? Больше? – Снова пауза. – Что ты такое творишь? Что ты с собой делаешь, Джуд? Ты выглядишь чудовищно, – продолжает Энди. – Ужасно. Ты выглядишь больным. – Он умолкает. – Ну скажи уже что-нибудь. Скажи что-нибудь, черт тебя дери, Джуд.
Он знает, как должна развиваться эта сцена: Энди орет на него, он орет в ответ. Заключается перемирие, которое в конечном счете ничего не меняет; он согласится на какое-то бессмысленное половинчатое решение, от которого Энди будет легче. А потом случится что-нибудь похуже, и станет ясно, что вся эта пантомима – не более чем пантомима, и ему навяжут терапию, которой он не хочет. Вмешается Гарольд. Ему прочитают кучу нотаций, а он будет продолжать лгать, и лгать, и лгать. Один и тот же цикл, один и тот же круг, снова и снова, предсказуемый, как мужчины, которые входят в комнату мотеля, пристраивают свою простыню на кровати, занимаются с ним сексом и уходят. А потом следующий и следующий. А на следующей день – то же самое. Его жизнь – это череда жутких алгоритмов: секс, порезы, то, се. Пойти к Энди, лечь в больницу. На этот раз нет, думает он. На этот раз он сделает что-то иное; на этот раз он ускользнет.