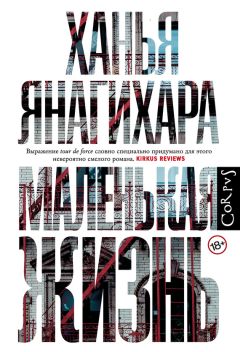Наконец он поднимает голову и видит, что Гарольд смотрит на него, видит, что Гарольд беззвучно плачет и смотрит, смотрит на него.
– Гарольд, – говорит он, хотя Энди все еще не замолк, – освободи меня. Освободи меня от данного тебе обещания. Не заставляй меня мучиться дальше. Не заставляй.
Но никто его не освобождает – ни Гарольд, ни кто-то еще. Вместо этого его хватают и везут в больницу, и там, в больнице, он начинает сражаться. Это моя последняя драка, думает он, и сражается яростнее, чем когда бы то ни было, воет и плюет в лицо Гарольду и Энди, вырывает катетер из вены, бьется в своей койке, пытается расцарапать Ричарду руку, пока наконец медсестра, чертыхаясь, не вкалывает ему седативное средство.
Он просыпается с запястьями, зафиксированными на кровати, без своих протезов, без одежды, с комком ваты на ключице, под которым, понимает он, вставлен катетер. Опять все то же самое, думает он, то же самое, то же самое, то же самое.
Но это не то же самое. На этот раз ему не предоставляют выбора. На этот раз ему вводят зонд, который через брюшину проникает прямо в желудок. На этот раз его заставляют вернуться к доктору Ломану. На этот раз за ним будут следить во время каждого приема пищи: Ричард проследит, как он завтракает, Санджай – как он обедает (и ужинает, если он допоздна засиживается на работе). Гарольд будет следить за ним по выходным. Ходить в туалет ему разрешают не раньше чем через час после еды. Он должен видеться с Энди каждую пятницу. Он должен видеться с Джей-Би каждую субботу. Он должен видеться с Ричардом каждое воскресенье. Он должен видеться с Гарольдом по первому приказанию Гарольда. Если он пропустит прием пищи или встречу или как-то еще избавится от еды, его положат в больницу, и неделями он уже не отделается, счет пойдет на месяцы. Он должен набрать как минимум тридцать фунтов, и требования будут ослаблены, только когда этот вес продержится полгода.
Так начинается его новая жизнь, жизнь за пределом унижения, скорби, надежды. В этой жизни его друзья с усталыми лицами наблюдают, как он ест омлеты, сэндвичи, салаты. Они сидят напротив него и смотрят, как он наматывает пасту на вилку, как водит ложкой по тарелке с полентой, как срезает мясо с костей. Они смотрят на его тарелку, в его миску и либо кивают – да, можешь идти, – либо мотают головой: нет, Джуд, надо съесть побольше. На работе он принимает решения, которым все следуют, но потом в час дня в его кабинет приносят обед, и на протяжении следующего получаса – хотя больше никто в фирме об этом не знает – его решения не значат ничего, потому что у Санджая абсолютная власть и он должен подчиняться каждому его слову. Одним сообщением, посланным Энди, Санджай может отправить его в больницу, где его снова свяжут, снова будут насильственно кормить. Все они могут это сделать. Никому, как видно, нет дела, что не этого он хочет.
Вы все забыли, что ли? – порывается он спросить. Вы забыли его? Вы забыли, как он мне нужен? Вы забыли, что я не умею быть живым без него? Кто меня обучит? Кто скажет, что мне теперь делать?
В первый раз его послали к доктору Ломану ультимативно, и возвращается он тоже под действием ультиматума. Он всегда вел себя приветливо во время сеансов у Ломана, приветливо и отстраненно, но теперь он резок и враждебен.
– Я не хочу здесь находиться, – говорит он, когда доктор приветствует его словами «рад вас снова видеть» и спрашивает, что бы он хотел обсудить. – И не лгите мне: вы не рады меня видеть, и я не рад здесь быть. Это пустая трата времени, вашего и моего. Я здесь по принуждению.
– Мы можем не обсуждать причины вашего визита, если вы этого не хотите, Джуд, – говорит доктор Ломан. – О чем бы вы хотели поговорить?
– Ни о чем, – огрызается он, и повисает тишина.
– Расскажите мне о Гарольде, – предлагает доктор Ломан, и он раздраженно вздыхает.
– Не о чем рассказывать.
Он приходит к доктору Ломану по понедельникам и четвергам, каждую неделю. В понедельник вечером после сеанса он возвращается на работу. Но по четвергам его заставляют видеться с Гарольдом и Джулией, и с ними он тоже чудовищно груб; не просто даже груб, а злобен, недоброжелателен. Его поведение изумляет его самого – никогда в жизни он не осмеливался так себя вести, даже в детстве, и кто угодно за такое его бы избил. Но Гарольд и Джулия никогда не упрекают его, никогда не наказывают.
– Это отвратительно, – говорит он в тот вечер, отталкивая тарелку с тушеной курицей, которую приготовил Гарольд. – Я это есть не буду.
– Я дам тебе что-нибудь другое, – торопливо говорит Джулия, вставая. – Что ты хочешь, Джуд? Сэндвич? Яйца?
– Что угодно, – отвечает он. – Это какая-то собачья еда.
Но обращается он к Гарольду, глядя прямо на него, в расчете, что тот не выдержит, сорвется. От ожидания пульс бьется у него в горле: он уже видит, как Гарольд вскакивает со стула и бьет его по лицу. Он видит, как Гарольд начинает рыдать. Он видит, как Гарольд выгоняет его из дому.
– Убирайся отсюда на хрен, Джуд, – скажет Гарольд. – Убирайся из нашей жизни и не приходи больше никогда.
– Отлично, – скажет он. – Отлично, отлично. Ты мне все равно не нужен, Гарольд. Вы все мне не нужны.
Какое это будет облегчение – узнать, что Гарольд никогда его и не хотел, что усыновление было капризом, глупостью, все удовольствие от которой давно померкло.
– Джуд, – говорит он наконец, очень тихо.
– Джуд, Джуд, – передразнивает он, выкрикивая собственное имя как сойка. – Джуд, Джуд.
Он зол, он в ярости: нет такого слова, которое описало бы, что он такое. Ненависть бурлит в его жилах. Гарольд хочет, чтобы он жил, так вот же, получи, Гарольд. Посмотри, каков я на самом деле.
Понимаешь ли ты, как больно я могу тебе сделать? – вот что он хочет спросить у Гарольда. Понимаешь ли ты, что я могу сказать слова, которые ты никогда не забудешь и за которые никогда меня не простишь? Понимаешь ли ты, что я наделен такой властью? Понимаешь ли ты, что каждый день, что я знаю тебя, я тебе врал? Знаешь ли ты, кто я на самом деле? Знаешь ли ты, со сколькими мужчинами я спал, что я им позволял с собой делать, какие предметы в меня засовывали, какие звуки я издавал? Его жизнь, единственное, что ему принадлежит, находится во власти других людей: Гарольда, который хочет, чтобы он жил, демонов, которые скребутся в его теле, свисают с ребер, протыкают легкие когтями. Брата Луки, доктора Трейлора. Для чего нужна жизнь? – спрашивает он сам себя. Для чего нужна моя жизнь?
Так что же, думает он, я никогда не забуду? Это и есть я, несмотря на все прошедшие годы?
Он чувствует, что у него начинает идти кровь носом, и отодвигается от стола.
– Я ухожу, – говорит он, когда Джулия входит в комнату с сэндвичем. Он видит, что она обрезала корки и нарезала сэндвич треугольниками, как ребенку, и на секунду он колеблется, готовый зареветь, но одергивает себя и опять переводит злобный взгляд на Гарольда.
– Никуда ты не уходишь, – говорит Гарольд, не сердито, но решительно. Он встает со своего стула, показывает на него пальцем. – Ты останешься и все доешь.
– И не подумаю, – объявляет он. – Звони Энди, мне все равно. Я покончу с собой, Гарольд, я покончу с собой, что бы ты ни делал, и ты не сможешь меня остановить.
Он слышит, как Джулия шепчет:
– Джуд… Джуд, милый.
Гарольд подходит к нему, по пути забрав тарелку из рук Джулии, и он думает: вот оно. Он задирает подбородок, ждет, что Гарольд ударит его тарелкой по лицу, но Гарольд его не бьет, а только ставит тарелку на стол перед ним.
– Ешь, – говорит Гарольд сдавленным голосом. – Съешь это немедленно.
Он неожиданно вспоминает тот день, когда в доме Гарольда и Джулии с ним впервые случился приступ. Джулия пошла в магазин, а Гарольд наверху распечатывал не предвещавший добра рецепт сложного суфле, которое, по его словам, собирался готовить. А он лежал в кладовке, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не засучить ногами от боли, и слышал, как Гарольд спускается по скрипучим ступеням и входит на кухню. «Джуд?» – позвал Гарольд, не обнаружив его, и он, как ни старался молчать, какой-то звук все-таки издал, и Гарольд открыл дверь и нашел его. К этому моменту они с Гарольдом были знакомы шесть лет, но он всегда осторожничал, с ужасом ожидая неизбежного дня, когда предстанет перед Гарольдом в своем истинном обличье. «Прости», – попытался он сказать Гарольду, но выходил только хрип.
«Джуд, – сказал испуганный Гарольд, – ты меня слышишь?» – и он кивнул, и Гарольд вошел в кладовку, пробираясь между пачками кухонных полотенец и контейнеров со средством для мытья посуды, опустился на пол и бережно положил его голову себе на колени, и на секунду ему подумалось, что пришел момент, которого он всегда отчасти ждал, и Гарольд сейчас расстегнет штаны и ему придется делать то, что он делал всегда. Но Гарольд этого не сделал, только погладил его по голове, и через некоторое время, извиваясь и мыча, напрягаясь от боли, переполнявшей суставы жаром, он осознал, что Гарольд ему поет. Песню эту он никогда раньше не слышал, но инстинктивно понял, что это детская песенка, колыбельная, и пока он трясся и дергался и шипел сквозь зубы, сжимал и разжимал левую руку, вцепившись в горлышко ближайшей бутылки оливкового масла правой, Гарольд все пел и пел. И лежа там, бесконечно униженный, он понимал, что после этого случая Гарольд либо начнет отстраняться от него, либо, наоборот, приблизится еще сильнее. И поскольку он не знал, как именно случится, он понял, что надеется – как не надеялся никогда ни до ни после, – что этот приступ никогда не пройдет, что песенка Гарольда никогда не кончится, что ему никогда не придется узнать, что за ней последует.