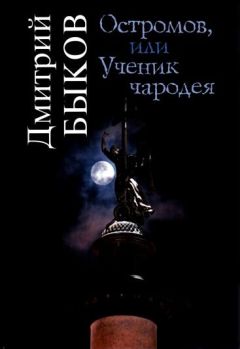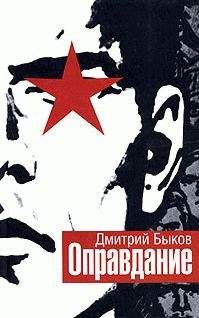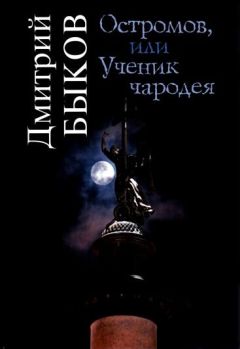Кабинет товарища Осипова располагался на третьем этаже свежекрашенного зеленого особняка. Остромов смиренно предъявил красноармейцу паспорт и рекомендательное письмо — «Подателю сего Б. Остромову прошу содействовать. Зам. пред. СО ГПУ Огранов» — и переждал, покамест о нем доложили по внутренней связи. Особняк был телефонирован насквозь, хорошо, однако, поставлено. Ждать пришлось минуты три.
— Просят, — сказал красноармеец в лучших старорежимных традициях. Он парень был простой, с чем-то свинячьим в лице. Они все были теперь немного свинки: врут, что свиньи наглы. В чертах свиньи есть нечто робкое, умильное: вот, я накушалась. Им разрешили накушаться, и они робко щурятся: ведь можно? Не зарежут еще? Дурить их было просто до изумления. Остромов чувствовал себя немного свинопасом, только принцесса запаздывала. Осипов тоже был простой, понятный при первом взгляде: он выработал себе несколько жестов, призванных изображать работу мысли, внимание, глубокую задумчивость, доброжелательство к посетителю, увлеченность проэктом, — и так лубочно, что отчетлива была вся молодость, вся трехмесячность его здесь пребывания. Он так старательно и деловито исписывал тетрадный клок, что сразу делалось ясно — вставочку схватил за минуту перед тем, когда дал команду пропустить; и пишет наверняка «Эне, бене, раба».
— Присядьте, товарищ, — сказал он с беглой улыбкой. Пока он не наимитировался, Остромов осматривался. Кабинет был выгорожен из большой залы, разделенной теперь коридором. Все разгородили фанерой — в зале, должно быть, прежде танцевали, а теперь в картонных закутках писали свою абракадабру товарищи Осиповы. Так вам, не пустили когда-то приличных людей, теперь терпите свинок. Ежели бы заранее научились впускать в свой замкнутый мир хоть немного свежего воздуха — не сидели бы теперь по норам, как мыши. Стул под Осиповым был хозяйский, с вытершейся, но все еще голубой обивкой, а стол грубый, сверху клеенчатый. Посетителю предлагалась табуретка, окрашенная в тошнотворный розовый цвет. Видимо, собеседники Осипова были в основном такого толка, что следовало сразу указать им место — допрашиваемые или упрашивающие, — а потому хозяйский стул был один. Топорностью и цветом табурет был также свиноподобен. В углу стоял тяжелый коричневый сейф, огромный, достаточный, чтобы упрятать человека. Остромов поежился, вообразив: страдал клаустрофобией.
— Что же, — утомившись изображать срочные труды, поднял Осипов лазоревые глаза. Гимнастерка его была тщательно выглажена — вероятно, товарищем Осиповой. Вообще наличие товарища Осиповой чувствовалось: только у молодых мужей бывает такой сытый, молочно-белый цвет лица, такая затаенная радость. Никто не знает, что мы делаем по ночам, какие кульбиты, а как бы нам хотелось, чтобы кто-нибудь догадался! Товарищ Осипова, наверное, худа, малокровна, у нее толстые губы, слабые руки и девичий стебелек шеи, и зовет она товарища мужа лапушкой, и ласки ее робки, беззвучны.
Остромов с достоинством, без суетности, взглянул в лазоревые очи товарища Осипова.
— Я имею к вам записку товарища Огранова, — сказал он, любезно осклабясь, и протянул запечатанный конверт. Осипов вскрыл, пробежал, старательно нахмурился и потщился изобразить сосредоточенность.
— Товарищ Огранов указывает, что вы специалист в масонской области, — сказал он уважительно. — Чем же могу, так сказать…
— Я удивляюсь, — сказал Остромов. — Я удивляюсь: отчего советская власть еще не протянула нам первой братскую руку? Я подготовил краткий свод и вас не задержу, — он извлек из портфеля разделенную на два столбца желтую, твердую, словно костяную страницу. Острым его почерком были выписаны пункты. — Оставьте себе для изучения, но позволю кое-что вслух. Слева намечены мною черты к характеристике соввласти. Справа — черты масонства. Но я не назвал себя. Я инженер, немного переводчик, и не скрываю от вас, что состоял членом ложи «Великой Астреи» и поныне состою, ибо освободить от этого членства земная власть не может.
Осипов слушал, иногда ставя закорючки в своем листе.
— Имя мое в бытовой жизни Борис Васильевич Кирпичников, — сказал Остромов строго, — в ложе я называюсь Борис Остромов, потому что по ее правилам на третьей ступени посвящения — всего их, как вы знаете, тридцать три и семь тайных, — приобретается новое имя для рождения в новую жизнь. Я открываю вам все это, чтобы вы видели, насколько открыты мои карты. Моя жизнь теперь в ваших руках, ибо открывать второе имя можно только мастеру ложи не ниже седьмой ступени — вы же, полагаю я, еще этой ступени не достигли…
И он улыбнулся, выбросив свой козырь. Товарищ Осипов никак не ожидал, чтобы ему вручили чью-либо жизнь.
— Русское масонство умозрительное, — говорил Остромов, ровно, четко, без пауз: речь была уже сказана Огранову и после того отрепетирована с учетом его вопросов. — Мы никогда не занимались политикой, и братья, замеченные в политизировании, изгоняются без права возрождения, на какой бы ступени ни стояли. Но цели наши — вот, извольте: во-первых, мир без угнетения человека человеком. Заметьте, что у соввласти то же самое. Затем, полный интернационализм: то же самое. Братские чувства к любым людям без различия имущественных положений: совершенно так же. Разница одна: вы осуществляете диктатуру пролетариата. Но ведь и диктатура пролетариата станет когда-нибудь не нужна, когда останется один пролетариат. Об этом у Маркса подробней, вы знаете, конечно. Но и нам в идеале видится общество без классов, и никакого различия в целях, таким образом, нет: вы согласитесь?
Товарищ Осипов потер лоб, изображая задумчивость, но вскоре кивнул. Товарищ Огранов не стал бы присылать первого встречного.
— Bene[6], — сказал Остромов. — Тогда почему же — почему же, спрашиваю я, — соввласть не может сотрудничать с нами? Вероятно, за своими делами, действительно бесчисленными, она забыла о наших философских кружках, ничем для вас не вредных. Ведь тирания всегда бросала нас в темницы, мы, так сказать, жертвою пали — и почему бы теперь не объединить наши усилия в достижении общей цели? В девятнадцатом году председатель Петрогубчека Комаров не нашел в нас ничего недружеского, напротив. Вы знаете, конечно, товарища Комарова, Николая Павловича?
Товарищ Осипов кивнул.
— Я давно не был в городе, жил на юге, — прочувствованно сказал Остромов, — и лишен был удовольствия видеть товарища Комарова. Отношение его было выше всякой похвалы. Вы не знаете, где он теперь?
— Он секретарь сейчас этого, губисполкома, — сдержанно сказал Осипов, не вполне еще понимая, как себя вести.
— Если случится встретиться, передайте мою душевную благодарность, — поклонился Остромов, прижимая руку к груди. — Он так тогда и сказал — вижу его перед собой очень ясно: раз вы не против нас, сказал он, то и живите. И вот так махнул. И обысков у нас больше не было, он дал как бы охранную грамоту, позволившую сохранить реликвии и самое братство…
— Чем же, однако, я могу… — начал товарищ Осипов, все еще не понимая. Начиналось труднейшее: подвести его к мысли, не уронив себя.
— Предложение мое простое, — сказал он деловито. — В Ленинграде теперь много людей бывшего сословия. Эти люди готовы признать советскую власть, но быстрая их перековка невозможна. Они на другое рассчитаны, под другое, как говорится, заточены. С ними работа не ведется, и у них могут возникнуть настроения. — Он подчеркнул последнее слово и поднял брови. — Мы предлагаем для них легальную форму организации с непременным информированием вас обо всем. От вас же мы просим одного: разрешения и впредь философствовать, чтобы не утратить уже открытых братством весьма важных закономерностей. Вы можете, к примеру, присылать на наши занятия своего инструктора. Вообще способы контроля многообразны. Я обязуюсь в любой день — ну, скажем, раз в месяц, в первый вторник, называемый у нас честным вторником, хотя как вам будет угодно, — давать вам полный отчет о настроениях, взглядах, планах. Вы лучше меня знаете, — надо было все время подчеркивать, что товарищ Осипов во многих отношениях лучше, — сколь трудно контролировать людей интеллигентных, как они скрытны, и как им сейчас — о да, их можно понять. И я не удивлюсь, — он вновь поднял брови, — я не удивлюсь, если эта среда вдруг породит… словом, лучше знать заранее. Масонство, мне кажется, есть та самая форма, которая позволяет действовать организованно и притом у вас на глазах. Ведь согласитесь, они не пойдут, да их и не пустят, в собственно партию. А куда-то идти им надо?
И он проткнул Осипова волевым, стальным взором, который отработал не вчера: переход от уговоров к этой повелительности действовал неотразимо. Осипов против воли кивнул.
— Я предлагаю лишь, чтобы они шли к нам, — закончил Остромов. — И чтобы посредниками между ними и вами были мы как ближайшая к вам форма умственного союза. Что скажете?