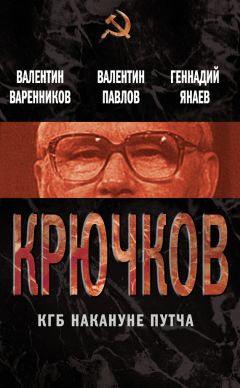— Ну, Лёха! — подбодрила Сава.
Лёха, однако, молчал.
— Херидий? — предположила Сава.
— «Е» — третья, — вздохнула Рута, — и букв больше.
— Охеридий?
— Ещё буква.
— Захеридий!
— Двенадцать по горизонтали, — продолжала Рута. — Экскаватор с большим ковшом.
— Экскаватор с большим ковшом? И всё? — удивилась Сава.
— Так написано.
— Лёха, — вкрадчиво подступила Рута.
— Шестая — «е»!
— Работает ковшик, а? Или не вырос ещё ковшишка? Ну, не лезь, Савка! Шестая «е»? Загребало.
— Шестая, а не пятая!
— Тогда… Загре…ебало. Загреебало — экскаватор с большим ковшом. Годится!
Лёха сосредоточенно курил.
— Скучный ты, Лёха! — замахала руками Рута. — Всё куришь, куришь, не хочешь с нами отгадывать.
— Из-за дыма уже кроссворда не видать, — зашелестела журналом Сава. — Пошли дальше. Четырнадцать по вертикали. Прибор, используемый в геодезии для определения плотности грунта. У… Лёха, если не отгадаешь…
— Буквы? — как конь из хомута, высунул голову из дыма Лёха.
— Длинненькое словечко. Третья «у», в конце «е».
— Опять «е»? Зае… ты меня, Савка, с этим «е»! Лёха, хоть одно слово отгадай!
— Труппекатор! — вдруг громко объявил Леон. — Пиши: труппекатор!
— Какие люди!
— С чердачка?
— Откуда надо, — усмехнулся Леон.
Лёха испуганно смотрел на Леона. Он был крепким парнем, этот Лёха. Уши позеленели, а всё курил.
— Как ты сказал: труппекатор? — склонилась над кроссвордом Сава. — Леонтьев, ты гений!
Катю Хабло Сава и Рута не замечали, как будто не стояла рядом с Леоном Катя Хабло.
— Давай, что там ещё? — Леон вспомнил, что уходить из подъезда следует по одному, как с конспиративной большевистской сходки. Подумал, что Катя, пожалуй, может идти.
— Шестнадцать по горизонтали. Праздник, народные гулянья, — обнародовала Сава. — Вторая «о», последняя «и». Восемь букв.
Некоторое время все удручённо молчали. Лёха затушил о стену папиросу.
— Поебонки! — сказал Леон.
Впервые в жизни он видел в глазах девчонок такое восхищение. Безобразное несуществующее слово вошло в клеточки кроссворда, как патрон в наган. Сава поднялась со ступенек, молитвенно протянула к Леону руки поверх дымящейся Лёхиной головы.
Нормально, решил Леон, посижу с девчонками.
— Нам пора! — прозвенел над ухом требовательный бритвенный голос Кати Хабло.
Я с ней целовался, равнодушно вспомнил Леон.
Они пошли вниз по лестнице.
Леон подумал, что останется в памяти Савы и Руты как парень, отменно разгадывающий кроссворды. Но неизбежно объявятся другие парни, ещё более отчаянные разгадчики. Сава и Рута забудут его.
Перед тем как выйти из подъезда они конспиративно изменили внешний вид. Катя спрятала в рюкзак свою запоминающуюся яркую куртку, стянула резинкой в хвост распущенные волосы. Леон спрятал в сумку свою незапоминающуюся (мог бы и не прятать) куртку, разлохматил голову, нацепил на нос тёмные очки, которые ему дала Катя. Никто не должен был узнать бутылочных террористов в примерной ученице и лохматом придурке в тёмных очках.
На улице было прохладно. Дело шло к вечеру. Применительно к данному полушарию планеты солнце садилось. Применительно к колодцу данного двора поднималось, текло вспять от земли по стенам и окнам, воспламеняя их.
Никто их не подстерегал. Видимо, бутылочный инцидент был исчерпан. Член президентского совета, должно быть, докладывал президенту основные тезисы свинцовой экономической реформы. А может (и скорее всего), уже сидел в зале для VIP (very important person[1]) в Шереметьево, ожидая отлёта в Лондон или Мадрид, прикидывая, как там будет с фунтами или песетами?
Домой, подумал Леон, быстрей домой, надо учить алгебру, завтра городская контрольная!
Вышли на проспект. Но и проспект был демократичен, мирен. На решётке канализационного люка отколотое бутылочное горло.
— Заскочим ко мне? — предложила Катя. — Я покажу тебе гороскоп.
— На КПСС? — Если что сейчас совершенно не интересовало Леона, так это гороскоп КПСС. Леон почувствовал, как натягиваются невидимые нити, влекущие его прочь от ружья. Это ничего не значит, подумал Леон, зато потом летишь, как камень из рогатки. — Кто у тебя дома?
— Никого, — ответила Катя.
— Мать в Амстердаме?
— Нет, — сказала Катя, — но она поздно вернётся.
Они шагали по скверу, за которым было белое здание школы, а дальше — через дорогу — их дом. Солнце обливало последний этаж дома, как светящаяся баранья папаха. Выше были белые звёзды. Песчаная дорожка, вьющаяся между газонами и клумбами, была странно холодна. Сердце Леона тяжело билось. Шампанское успело выветриться. Сатурн сменил шампанское в его сердце. Совесть Леона была чиста. Катя сама пригласила его. Он не напрашивался.
В подъезде, в ползущем вверх лифте — Катя жила на последнем этаже — Леон был сдержан.
Лифт остановился.
Катя, оказывается, жила выше последнего этажа. Лестницу перегораживала раздвижная решётка, которую Катя отомкнула ключом и раздвинула, а как прошли, сдвинула и замкнула. На крохотной, с единственным окном площадке была единственная же дверь. Сегодня у меня день последних этажей, подумал Леон.
— Квартирка выгорожена из чердака, — объяснила Катя. — Её как бы нет, она не значится в жилом фонде. Хотели выкупить, но заломили такую цену… Ты идёшь?
— Иду, — Леон прислонился к стене, чуть не сбитый с ног катящейся из окна красной волной.
Окно было круглым, с земли представлялось никчёмной пуговичкой под крышей, а тут вдруг обернулось слепящим раструбом, красным огненным сечением. Леон догадался, что утекающее в небо солнце легло животом на крышу.
Внизу из-под моста вытекала пылающая, как Лёхины уши, Москва-река. Нестерпимо сверкали яблочно-луковичные купола реставрируемого монастыря. Как будто расплавленные золотые капли застывали в резных костяных перстнях. Высилось серое, напоминающее поставленный на попа акваланг, строение элеватора. Посреди пустого поля тянулся приземистый длинный жилой дом. То есть, конечно, что-то было вокруг дома, может, даже подобие улицы, но сверху казалось, что дом стоит посреди пустого поля. И всё захлёбывалось в красных волнах, как если бы невидимый великан большевик тянул за собой небо-знамя.
Леону и раньше, когда чердак был чердаком, а не Катиной квартирой, приходилось смотреть из круглого иллюминатора-окна на странный длинный дом посреди поля. Тогда крышу дома, как петушиный гребень, украшал лозунг: «Коммунизм неизбежен!»
Леон, помнится, недоумевал: для кого лозунг, кто разглядит его на крыше дома посреди поля? Долгое созерцание лозунга пробуждало скверные чувства. Хотелось что-нибудь сломать, разрушить. Неизбежен? На вот, на! И Леон — и не он один! — ломали и рушили на чердаках и крышах, но главным образом, конечно, внизу.
Сейчас лозунга на крыше не было. Пуста, как побритая шишковатая голова, была крыша дома.
Не увидев знакомого лозунга, Леон вдруг понял, зачем одинокий длинный дом посреди поля, зачем на крыше лозунг, который никто, кроме птиц, не может видеть. Дом — чтобы поместить лозунг. Лозунг — чтобы разная, ползающая по крышам и чердакам, летающая на воздушных шарах и самолётах экологической службы, смотрящая из дальних окон в бинокли, подзорные трубы и телескопы сволочь, дуреющая от воздуха, звёзд и свободы, не забывала, что коммунизм неизбежен! И следовательно, не обольщалась.
Не увидев лозунга, задним числом осмыслив, зачем он был, Леон, вместо того чтобы обрадоваться, что его нет и никогда больше не будет, вдруг подумал, что коммунизм… неизбежен.
Ему сделалось смешно. До того смешно, что в красном колышащемся воздухе над крышей дома он отчётливо разглядел красные же прежние буквы: «Коммунизм неизбежен!»
Леон решил, что сошёл с ума.
Хотя точно знал, что не сошёл.
Впрочем, если коммунизм и впрямь неизбежен, это не имело значения.
Леон подумал, что формальный предлог для посещения Кати исчерпан. Ему уже известен гороскоп.
И Катя догадалась, хотя стояла в дверях и вряд ли могла видеть то, что видел Леон.
— Опять буквы? — спросила она.
— Весь лозунг. Как будто не снимали.
— Буквы иногда появляются на закате, — задумчиво произнесла Катя. — Но весь лозунг целиком я ещё не видела. Коммунизм неизбе. Мунизм неизбеж. Один раз: Ко неи. А иногда, — понизила голос, — почему-то по субботам на иностранных языках! То санскрит, то иероглифы, то какие-то неизвестные, похожие на письмена майя. Я всё срисовываю.
— И что из этого следует? — громко спросил Леон. Шептаться в дверях о неизбежности коммунизма показалось ему унизительным.
— Одно из двух, — ответила Катя. — Или он избежен, или неизбежен. Что ещё?
Они вошли в квартиру — двухэтажное многоярусное помещение с винтовой лестницей, холлами, большими окнами, стеклянной, на манер шалаша, крышей над коридором. Сквозь незашторенные окна, прозрачный потолок квартира, как стакан вином, наполнялась красным коммунистическим светом.