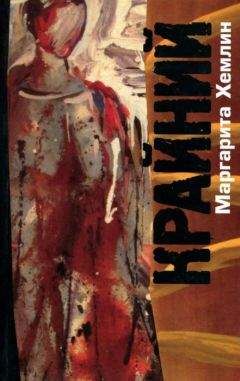— От, читаю газету. «Правду». Центральная газета, в самой Москве ее пишут. Сто раз пишут черновики, чтоб ошибки не получилось. И в газете написано в первой странице по белому: космополиты раз, космополиты два, космополиты три. А на закуску фельетон, как один космополит продал свою совесть за три копейки врагам. А зачем продал? А ни зачем. Сказано ж — за три копейки. Такой у космополитов интерес. Три копейки. А больше даже не гроши те поганые, а чтоб назло. И я тебя, Нишка, спрашиваю, кому назло? От ты есть отборный космополит. И по лицу и по всему. От ты кому назло за три копейки свою совесть продал бы б? Молчишь? И я молчу. И все у нас тут в Остре молчат. Затихли.
— Кто затих? — я готовился со своим рассказом, а Янкель меня сбил.
— Кто? Евреи. Космополиты. Поджигают третью мировую войну на просторах СССР. Всех людей, кроме себя, хотят убить и панувать тут до заворота кишок. Жрать, пить, гулять. Или еще какие планы есть? Ну, в кино ходить без перерыва. И там квасом наливаться и салом заедать.
Янкель замолчал и уставил на меня известные своей твердостью глаза.
— Нишка, ты в Чернигове жил. Областной центр. Там сведений больше обретается. Не даром ты сюда приехал. Без вещей. Мне доложили. Дужченко Оксана и доложила. Украли, говоришь? Ага. Любенький мой хлопчик, ты удирал с Чернигова. Удирал. И таким манером, что нитки с собой захватить не успел. А ты придумал — украли. Только осознать не могу, зачем ты такой тарарам устроил. Зачем всему Остру глаза мозолил. Почему не сидел тихонько. И тем более не понимаю по законам партизанского движения, почему ты сюда приперся, где тебя каждая собака знает наизусть?
Я не мог вникнуть, к чему Янкель клонит. Откуда и что ему известно и как он это перекручивает у себя в мозгах.
Но Янкель и сам мне разъяснил, что имелось в виду.
Янкель посчитал, что я появился скрываться от линии партии и правительства насчет космополитов. Из областного центра в глухую местность. Он рассудил, что я такой дурак, что могу себе разрисовать в мозгах своих куриных, что от линии партии и правительства можно убежать. И вот я прибежал сюда.
Он мне такое изложил.
А я ему толково ответил:
— Янкель, я газет не читаю. И сплетен бабских не слушаю. Не скрою, умные люди мне намекали, что широко развернулось в частности в Чернигове еврейское засилье. У нас в парикмахерской и так и дальше. Но я не в курсе полного объема. Я сюда совершенно по другому поводу прибежал. Именно прибежал. Тут твоя правота имеется. И вещи у меня в действительности по дороге украли. Так я вещи заранее собрал в торбу и торбу неосмотрительно бросил в небойком месте. Я не виноват, что оно оказалось очень даже бойкое. Я, Янкель, человека убил. Немца, правда, пленного, но почти расконвоированного перед отъездом в его проклятый фатерлянд. И меня по описаниям ищет милиция. И даже не милиция, а бери выше. МГБ. Вот, Янкель. А ты с талмудами своими газетными на меня прешь и слова сказать не даешь.
Янкель поднялся из-за стола. Газетку сложил в четыре слоя.
Гладит ее и говорит:
— И чего ж ты ко мне приперся?
Я говорю:
— Приперся, потому что ты был партизанский командир. Я ж немца убил, а не советского человека. Это раз. Кроме Остра у меня нигде никакого кола нету. Это два. И три: ты моего отца из больницы забрал и от тебя он пришел ко мне в Чернигов. Я хочу узнать его слова в твоей передаче.
— Понятно, — Янкель газетку в трубочку свернул, подошел к окну. Стал бить мух на стекле.
Побил немножко для отвода впечатления и приговорил:
— Сейчас ты ко мне пришел под защиту. А я тебя защитить не могу. Спрятать могу. А защитить никак. Устраивает такое?
Я удивился:
— Зачем меня прятать? У меня паспорт, у меня специальность. У меня тут и хата есть. В ней посторонние люди живут, но мне ж положено. Тем более я партизан. Буду тут проживать на виду у всех. Усы отпущу. Волосы перестригу. Ты, Янкель, представить не можешь. Ты височки немного по-другому подбрей и шею высоко не сними — и все лицо по-другому играет. Меня ж не по фамилии ищут, а по внешности.
Янкель окружил меня со спины и захватил мою голову своими ручищами как раз возле ушей. Аж до солнечных лучей в мозгах. Поднял с табурета. Я чуть не висел на воздухе.
— Слушай сюда. Подробные черточки ты мне потом расскажешь дословно. Как убил, где, по какому празднику. И такое подобное. Сейчас пойдем в твою хату к людям, которые там расположились. Вроде просто поздороваться. Скажешь им, сюда приехал погостить налегке. Жить тут не собираешься. Пусть не пугаются и с соседями не обсуждают скорое твое воцарение на старом месте после того, как они с углей твою хибару отстроили из чистого золота. Потом зайдем к Винниченке. С Гришей попрощаешься. Я на дороге постою. Я в ту хату даже через тошноту не взойду. К Музыченке заглянем. Там прощальные слова произнесешь по всем адресам. Заверишь — сегодня остаешься ночевать у меня, а с рассветом — обратно домой, в Чернигов. Посмотрел тут, вспомнил былое, хватит. У тебя отпуск кончается, тебе очень хорошо и прекрасно. Понял?
Распустил зажим. Отправил меня на землю.
Я мотанул головой утвердительно. По давнему опыту знал: если слушаешь Янкеля — слушай. Целиком и полностью. Наполовину — бесполезно.
И мы с ним пошли по Остру. Оба для вида веселые и устремленные в светлую даль.
В моей бывшей хате я не узнал ничего.
Там находилась глухая старуха, насквозь перевязанная платками: и вдоль и поперек, и голова. А также трое детей различного маленького возраста. Один еще в люльке. Всего четверо.
Я говорю:
— Здравствуйте вам у хату, хозяечка. Я тут до войны жил. Зашел сказать доброе слово родным стенам.
Старуха молчит, но напряжение чувствуется.
Старший хлопчик тянет ее за подол:
— Бабця, бабця, то той жид, що тато казалы. Вин нас прогоныть на вулыцю. Чуеш, бабцю! Зараз прогоныть! Я за татком побижу.
Выбежал. И на меня оглянулся. Кулачком погрозил. Две девочки попрятались. Одна под лаву, другая — под печь. Старуха к люльке пошкандыбала, вроде ей там что-то срочно надо. А ребеночек там мирно спит. Ему ничего от бабкиного участия не требуется. Мне с порога видно. И Янкелю видно. Он мне подмигнул.
И во всю силу голосом произнес:
— Мы зараз пидэмо. Мы тилькы на хвылылку. Чуетэ? Вин тут житы не будэ. Вин у Чернигови живэ. У Чернигови, чуетэ?
Бабка взяла ребенка на руки, стала колыхать. А сама на него ноль внимания, на Янкеля пялится, силится прочитать по губам.
— Цяя хата за вамы зостанэться. Йому нэ потрибно ничого. В нього нова е. У Чернигови. Пэрэдайтэ свому сыну.
Янкель махнул рукой на прощанье и вышел первый.
А я прирос. Стою и стою.
Бабка с дитем стоит. Дите орет. Его ж разбудили до времени. Бабка специально и разбудила, чтоб орал.
Я ее замысел раскусил, быстренько подошел к ней и забрал из ее слабых старческих рук младенца. Она не проронила ни слова. Окаменела. Я младенца голого, мальчика, держу на руках и не знаю, что с ним делать. Как успокоить. Качаю из стороны в сторону. А в голове морок.
Тут прибежал маленький, что за отцом бегал. За ним забежал и мужик. Здоровый. Сильный по внешности.
Янкель курил за калиткой, не сориентировался или папиросу пожалел. Докуривал.
Мужик на меня с кулаками:
— Виддай дытыну. Виддай, кажу, — тихо говорит. — Забырай свою хату, а дытыну видцай.
Я держу. Руки затекли, не пошевелюсь. Только вожу глазами по хате из края в край, из угла в угол.
Мужик ко мне. И ударил бы. А у меня ж хлопчик заливается на руках каменных. Вроде заложник. Так мужик решил.
Тут зашел Янкель. Увидел такое страшное дело, взял у меня младенчика, в люльку засунул, качнул, люлька ходуном пошла по своему накатанному пути.
Я вернулся в себя.
Мужик ко мне — и замолотил кулаками прямо в лицо.
Бабка орет благим матом, и Господа и черта вспоминает, дети кричат по своим углам.
Не помню, сколько длилось испытание. Янкель как-то положил всем нам конец. Меня за плечо одной рукой придерживает, чтоб я не упал от душевной слабости, мужику локоть назад завел, аж лопатка вывернулась, как у горбатого.
— Цыц, — говорит. — Цыц всем. И вы, мамаша, и ты, бешеный, и ты, дурак, — это в мою сторону. — Успокойтесь. Садитесь кто куда.
Расселись. Бабка заняла пост у люльки. Завела платок за ухо, чтоб хоть что-то в ухе застряло. Слушает.
Янкель провозгласил:
— Мы к вам с добром. Поздороваться. А вы ждали другого. Понятно. Вы детей против нас настроили. При них обсуждали. Что обсуждали, сами знаете. Нехорошо. По закону хата чья? Зайденбанда, — кивнул на меня. — Вы здесь живете на каких основаниях? На птичьих основаниях по случаю войны и ее последствий. И вот хозяин, — Янкель опять кивнул на меня, — добровольно отказывается от своей родной хаты. Чтоб вам в ней вечно жить с детьми. А ты его кулаками встречаешь! При детях. А ну миритесь! И мы пойдем.