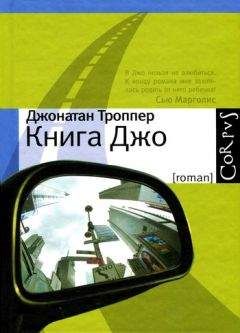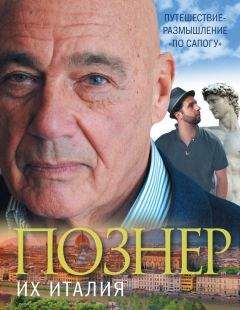Я опускаю стекло. Из-за того, что Мыш невысокого роста, его лицо находится почти на одном уровне с моим, и с первого взгляда ясно, что за семнадцать лет он практически не изменился. Все черты лица — примитивный выпирающий лоб, косые глазки и угреватые щеки — говорят о том, что когда-то давным-давно пращуры Мыша развели в его генофонде порядочное фондю.
— Так-так-так, — говорит он с мерзкой улыбочкой. — Вот это у нас кто!
— Привет, Мыш, — говорю я. — Как поживаешь?
— Меня так больше не называют.
— Прошу прощения… м-м-м… Дэйв.
— Для тебя — помощник шерифа Мьюзер, — говорит он, и в голосе его совершенно отчетливо звучит враждебность. — Ты вообще в курсе, с какой скоростью гонишь?
— Честно говоря, нет.
— Привет, Мыш, — подключается с пассажирского сиденья Уэйн. — Как делишки?
Мыш заглядывает за меня и вздрагивает, разглядев Уэйна.
— Привет, Уэйн, — говорит он явно сконфуженно. — Я тебя не заметил.
Уэйн был первым в истории «Кугуаров», кто открыто объявил себя геем, и его бывшие товарищи по команде громогласно отреклись от него и всячески его избегали, опасаясь, очевидно, что и их заподозрят в соответствующих наклонностях.
— Слушай, может, ты нас простишь, в виде исключения? — говорит Уэйн. — В качестве последней дани уважения бывшему товарищу.
— Если бы за рулем был ты, я бы еще подумал, — с ухмылкой отвечает Мыш. — Ты все-таки болеешь, и все такое. — Слово «болеешь» Мыш произнес с нажимом, как будто это просто дурацкий эвфемизм. — Но этого типа ни я, ни любой другой в этом городе прощать не намерены.
Он выпрямляется и снова поворачивается ко мне:
— Попрошу права и техпаспорт.
Он шагает к своей машине, чтобы пробить меня по компьютеру, надеясь, конечно, что машина окажется краденой, а права — фальшивыми.
— Мыш стал копом, — говорит с улыбкой Уэйн.
— Я так и понял, — отвечаю я.
Перед нами замедляет ход встречный «линкольн». Когда он проезжает мимо, затемненное стекло водителя опускается, и я встречаюсь взглядом с угольно-черными глазами тренера Дугана. Проезжая мимо, он неотрывно смотрит на меня без всякого выражения, и я кляну себя за страх, который поднимается у меня из живота при виде этих глаз, за дрожь в руках, которую я вдруг ощущаю, сжимая безжизненный руль. Хотя в моем романе Дуган наделен злобными качествами без всякой меры, я уже успел забыть, насколько большое воздействие может оказывать на людей его присутствие в реальной жизни.
Мыш усердно машет проезжающему тренеру, потом возвращается к моему окну и протягивает мне две квитанции:
— Вот эта за превышение скорости. А эта — за разбитую заднюю фару.
— У меня фара не разбита, — возражаю я, все еще потрясенный краткой встречей с Дуганом.
— Точно говорю, разбита.
Я выхожу из машины, мы обходим «мерседес», и тут Мыш отступает и ни с того ни с сего бьет по фаре каблуком своего сапога. И мерзко улыбается, словно злобный тролль из сказки.
Сквозь открытое окно слышно, как безудержно гогочет Уэйн.
1986
Начались занятия, и Уэйн с Сэмми стали тщательно скрывать свои отношения, что меня лично вполне устраивало — легче было сделать вид, что ничего и не было. Я продолжал проводить время с ними обоими, они же аккуратно следили за тем, чтобы не появляться на публике вместе, если рядом не было обнуляющего всю картину меня. Старательно ничего не замечая, я в конце концов убедил себя, что после школы между ними ничего не происходит, а события минувшего лета были кратковременным помешательством, не выдержавшим суровой реальности ярко освещенных школьных коридоров. Я легко проникся этой новой, подретушированной формой реальности, тем более что, честно говоря, у меня были более приятные темы для раздумий. После трех лет, когда на личном фронте у меня была выжженная пустыня, я наконец-то завел себе первую настоящую девушку.
В безудержном хороводе бюстов и ляжек, ежедневно дефилировавшем по буш-фолским школьным коридорам, спокойная привлекательность Карли Даймонд оставалась практически незамеченной. Подростки не ценят утонченности, они сразу клюют на гладкие, стройные ноги, округлые тугие ягодицы под короткой юбкой, обтянутую футболкой грудь, длинные, блестящие волосы и сияющую кожу. Грациозная фигурка Карли скрывалась под широкими блузками и свободными джинсами, а густые каштановые волосы были коротко подстрижены. Высокие скулы, безупречная кожа цвета слоновой кости и удивительно круглые карие глаза с желтыми вкраплениями на радужке — вроде бы все на виду, но ощущение было такое, что красота эта осознанная, что за ней стоит тонкий ум. Естественно, большинство мальчишек в нашем классе не обращали на нее внимания. А я сумел ее разглядеть, и вполне вероятно, что это мое самое большое достижение за все годы учебы в старшей школе. Никакими особыми навыками на фоне серых масс я не выделялся, в моих вступительных документах в колледж не значилось ни одной награды, дальновидно полученной вне школьной программы. В моем послужном списке был один-единственный пункт: проявив незаурядную мудрость и прозорливость, я сумел оценить спокойную, более зрелую красоту Карли, разглядеть огонь чувственности за ее тихой грацией и открытой улыбкой.
Началось все очень просто: на первом уроке мы оказались за одной партой. Так мы стали утренними товарищами, приятелями, начинающими вместе школьный день. Очень скоро я стал разыскивать ее глазами в течение дня, жить в ожидании той особой улыбки, которую она дарила мне в школьных коридорах, испытывать непонятную ревность. Я начал разглядывать ее лицо, когда она не смотрела на меня, восхищаясь простой правильностью черт, безупречностью шелковой кожи, как будто лишенной пор. Не раз она ловила мои взгляды, и ее понимающая улыбка ободряла меня. Я начал провожать ее после школы, руки наши слегка соприкасались при ходьбе, и в конце концов я осмелился взять ее за руку. Очень скоро держание за руки переросло в краткие осторожные поцелуи, а потом поцелуи стали долгими, настоящими, прерывавшимися только тогда, когда нам начинало не хватать воздуха, пока наши неопытные языки жадно исследовали друг друга. К середине октября мы стали совершенно неразлучны, скрепленные в единое целое могучим симбиозом бушующих гормонов и глубокой привязанности, которые чудесным образом подпитывают друг друга в тот сокровенный промежуток между детством и взрослой жизнью, когда они еще не входят в противоречие и не начинают безжалостно друг друга пожирать.
В восемьдесят шестом году влюбленному подростку жилось вольготно. Безработица была низкой, цены на бирже — высокими, и люди в целом с оптимизмом смотрели в будущее. Мы слушали позитивный европейский синти-поп: Depeche Mode, Erasure, А-На. Мальчики заправляли вареные гэповские джинсы в высокие найки, натирали волосы гелем и выстригали мысом, а также безуспешно пытались включить в свой скудный танцевальный репертуар «лунную дорожку». Девочки высоко взбивали волосы, носили переливающиеся всеми цветами радуги юбки, в том же духе красились, щеголяли в джемперах в сеточку со спущенным плечом и всяких других нарядах, увиденных в видеороликах Мадонны. Жизнь была настолько мирной, что Рембо пришлось снова заслать во Вьетнам, чтобы немного расшевелить публику. Мы не знали интернета и музыки в стиле гранж — и невинность наша не была разбавлена иронией; уклонение от армии и авторское кино еще не успели заявить о себе, поэтому мрачные вещи нас пока не привлекали. В те времена общество не осуждало человека за то, что он был счастлив.
Каждый день мы с Карли долго гуляли после школы, заходили на Стрэтфилд-роуд, чтобы поесть пиццы или мороженого, по пятницам танцевали на вечеринках, по субботам ходили в кино. Каждый вечер мы, лежа каждый в своей кровати, бесконечно говорили по телефону, исследуя нашу собственную постоянно расширяющуюся вселенную. Иногда по вечерам мы лежали на траве в саду у Карли и, соприкасаясь пальцами, смотрели в небо, стараясь не пропустить падения звезды. Мы ласкали друг друга в отцовском «понтиаке» у водопада Буш, который когда-то дал название нашему городу, а теперь служил излюбленным местом свиданий. Наши бурные поцелуи и ласки становились все смелее, дразнящими крошечными шажками мы продвигались вперед, и с каждым новым уровнем, с каждым волнующим чувственным открытием мы ощущали себя взрослее и ближе друг к другу. Когда мы лежали на заднем сиденье автомобиля с запотевшими стеклами и, голые по пояс, слипались бедрами, терлись и ввинчивались друг в друга сквозь джинсы, с неослабевающим жаром ощупывая друг друга языками, а кожаная обшивка, как целлофан, липла к нашим потным телам, — разумеется, мы искренне верили, что больше нам в жизни ничего и не нужно.
У Сэмми дела обстояли далеко не так прекрасно: как и следовало ожидать, в конце концов он привлек внимание хулиганистой парочки, Шона Таллона и Дэйва «Мыша» Мьюзера. Шон, с челюстью патриция, стриженными под «ежик» платиновыми волосами и темными узкими глазами, загоравшимися при малейшей возможности сделать какую-нибудь подлость, славился любовью поиздеваться над другими, и при этом ему все сходило с рук — то ли оттого что он был стартовым нападающим «Кугуаров», то ли из-за слухов, что его отец был каким-то образом связан с Ботинком Франки, известным местным бандитом. При том, что Мыш был защитником «Кугуаров», а его отец — шерифом, ни у кого не было охоты связываться с Мьюзером и Таллоном, и они фланировали по школьным коридорам в ореоле полной вседозволенности, как молодые аристократы со статусом дипломатической неприкосновенности, как будто никакие законы, написанные для нас, простых смертных, на них не распространялись. Главным у них, безусловно, был Шон, а Мыш, дубовый пенек с лицом австралопитека и страстью к похабным шуткам, всегда маячил на подхвате, как рыба-прилипала за акулой, довольствуясь теми ошметками, которые всплывали на поверхность после кровавой расправы. Сэмми со своими яркими нарядами и привычкой громко напевать в школьных коридорах действовал на них как красная тряпка.