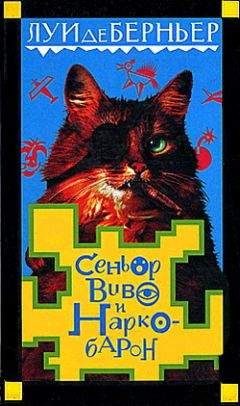Мы сочинили письмо с тактичным отказом всем, кто хочет от Д. ребенка, и еще одно – с искренней благодарностью – всем остальным. Напечатали со скидкой по тысяче экземпляров каждого у печатников – обычно они издают пропагандистские брошюры четырех компартий, которые вечно друг с другом грызутся. Рассылка обошлась Д. так дорого, что в конце концов я одолжила ему денег на взятку чиновнику в ратуше, чтобы тот пропускал наши письма через муниципальную маркировальную машину.
По-моему, все это уже опасно и тревожно – Д., кажется, согласен. Прошлой ночью в постели он вдруг всполошился и говорит: «Аника, у меня иногда ужасное чувство, будто я в твоей жизни – всего лишь проходной этап».
Я перепугалась, спрашиваю: «Милый, как это?» – хотя вроде уже догадалась, о чем он.
Он посмотрел на меня и сказал, пожалуй, не то, что думал: «Все, кого я в твоем возрасте знал, теперь – просто часть моей истории».
Мне кажется, он наконец стал серьезно воспринимать все эти угрозы, услышал предостережения смерти (нет, слишком сильно, лучше – «весточки» от нее, ему нравится это слово). Мне почему-то захотелось плакать, и я сказала: «А тебе не приходило в голову, что и я могу быть всего лишь частью твоей истории?» Его глаза в темноте сверкали – я думаю, он сам чуть не плакал. Я притулилась к нему, а он погладил меня и говорит: «Твои груди – как ночные звери. Я навсегда запомню, как они меня касаются». Словно вот-вот попрощается. Я стала молиться – первый раз с тех пор, как умерла мама.
Вчера произошла странная вещь. Мы гуляли и вдруг увидели индейца аймара (откуда ему тут взяться?) В индейском костюме, с косичкой, такой гордый – чувствуешь себя ничтожеством, на которое и смотреть-то не стоит. С индейцем был очень высокий пожилой негр, просто гора мускулов, но лицо приятное, и весь седой, на поясе – крестьянское мачете, такой, в ножнах с кожаными кисточками. Самое удивительное, они вели на поводках двух огромных черных ягуаров.
На улице все бросились врассыпную, будто дьявола увидели. Но Д. сдвинутый на животных – я клянусь, у него с ними телепатическая связь. Я уж не говорю, сколько раз к нему ни с того ни с сего подбегали собаки. Я однажды видела его на площади – он сидел на ограде с кошкой на коленях, а рядом – две лошади, ослик и три пса. Все время говорю ему, что наберется блох, а то и бешенство подцепит, а он только смеется. По-моему, ему с животными нравится, потому что все вокруг тогда верят, будто он какой-то колдун.
Только Д. увидал ягуаров, сразу встрепенулся. Я его пыталась удержать, но он пошел и представился индейцу с негром. Негр оказался каким-то Мисаэлем, но у меня сердце подпрыгнуло, когда я услышала, что индейца зовут Аурелио, – его колдовство тут всем известно! Говорят, он даже рак излечивает, а кошки Кочадебахо де лос Гатос – неожиданный побочный продукт одного сеанса исцеления. Аурелио все боятся, и я тоже.
Д. спросил про черных кошек, не из тех ли они знаменитых ручных ягуаров Кочадебахо де лос Гатос. Негр Мисаэль только кивнул, а индеец Аурелио этак сузил глаза и присосался к коке через пестик с дырочкой. Постараюсь точно припомнить, что он сказал. Примерно так: «Тебе угрожают три опасности». Д. рассмеялся и ответил: «Все так говорят, но я не верю». Аурелио снова прищурился и говорит: «Первая – ты думаешь, будто все тебе известно, и она влечет за собой вторую – ты ничего не поймешь, а третья – смерть появится внезапно и не там, где ее ждут».
Д. заухмылялся, я поняла – сейчас начнет подкалывать старика, и всерьез перепугалась. Д. делает вид, что верит только тому, что можно увидеть или потрогать, но это притворство. Я-то его лучше знаю. Слава богу, индейца он высмеивать не стал и заговорил о кошках. Спросил: «Зачем у вас кошки на поводке, их же все равно не удержать?» – и Мисаэль объяснил: когда кошки идут сзади, кажется, будто они подкрадываются, и люди начинают стрелять. Поэтому кошек водят на веревочке – мол, все вместе, и никто ни на кого не охотится. Я все это не очень хорошо излагаю.
Д. взглянул на кошек – я сразу поняла, что он сейчас присядет и погладит их. Я со страху чуть не обделалась. Они такие громадные, а одна облизывалась; говорят, только те, кого кошки знают, или колдуны могут их гладить без опаски. Попыталась его оттащить, но он сделал, как я и думала. Говорю ему, что он дурак, а он все равно по-своему.
Положил руки им на головы и разговаривал, точно с детьми: «Как поживаете?» – и все такое. Одна кошка лизнула ему руку, он на меня косится торжествующе да еще ухмыляется: «Ей нравится, что я соленый». Потом почесал другой горлышко и за ушами, и она встала на задние лапы, а передние ему на плечи положила. Д. шмякнулся навзничь, и я на секунду вправду решила, что зверь сейчас ему глотку разорвет. Не знала, как быть, и снова чуть не обгадилась, а потом вижу: Д. катается по дороге и понарошку борется с этим чудищем, а сам смехом заливается, будто его щекочут. Затем поднимается, кивает тем двоим, подходит ко мне как ни в чем не бывало и всю дорогу домой балаболит, как пахнут кошки, крепко и сладко, так вкусно пахнут, и все такое.
Когда мы уходили, я отчетливо слышала, как Мисаэль спросил у Аурелио: «Это он?» – а индеец ответил: «Да, он самый». Мне кажется, они хотели, чтобы я услыхала, – иначе могли ведь подождать, когда мы отойдем?
Слух о том, что Д. учинил, распространился моментально: теперь в городе при встрече с нами все крестятся, возносят молитвы и воссылают мольбы. Д. вообще про Аурелио не знал, и когда я рассказала, кто он такой и чем занимается, поднял меня на смех – дурой выставил. Мне уже чудится, что Д. ничего про себя не понимает. Как священник, который сам не знает, что верит в Бога, что-то вроде того. Иногда он меня пугает. Я спросила, видел ли он красавицу с оцелотом, дочку Аурелио, она часто с ним появляется, только обыкновенным людям ее видеть не дано, а Д. опять выставил меня идиоткой.
Я ужасно устала и совсем запуталась. Иногда спрашиваю себя, зачем я связалась с Д.? Совсем, наверное, ума лишилась. Все вокруг говорят, что встречаться с ним – просто самоубийство, а я все равно с ним, хотя и знаю, что люди правы. Я люблю его, только ему еще об этом не сказала, да, мы вместе, но никогда не говорим про опасности или наркоторговлю. По-моему, это его личное, нельзя мне туда вторгаться, однако я влезаю во все остальное.
Мне говорят, Д. настоящий колдун, он меня приворожил. Я смеюсь и выставляю их дураками – совсем как Д. меня, – но загадок много, и многое удивляет. Я клянусь, он действительно стал огромным, когда чуть не прикончил грабителей, и не понимаю, как это он играет с опасными зверями и остается невредим, и еще: когда он меня касается, похоже на маленький удар током. А руки у него почему всегда такие теплые?
Закончилась десятая тетрадка моего дневника – пять за то время, что я с Д. С выпускных экзаменов столько не писала.
У Заправилы возникли проблемы. Прежде всего, хоть ему и было всего пятьдесят два, он уже терзался неизбежными сомнениями и тревогами старости. Осмотр у своих врачей он проходил дважды в день, по пробуждении утром и перед отходом ко сну вечером, но, по опыту двурушнической жизни зная, что доверять никому нельзя, врачам не верил, а изобретал симптомы и потом ставил диагноз по медицинской энциклопедии; когда фантазии иссякали, все начиналось заново.
Врачи говорили: бесконечное переедание подточило пищеварительную систему до такой степени, что уже не имеет значения, как Заправила питается. Они говорили, у него такой излишек веса, что из гуманных соображений не следует больше ездить на знаменитом сером жеребце: у того прогнулась спина, и животное так угнетено, что не может выполнять функции производителя. Они утверждали: сердце у Заправилы расширено и деформировано, оно бьется лишь потому, что никак не сообразит остановиться. Врачи просили отказаться от привычки к ежедневным сексуальным упражнениям, но пациент неизменно отвечал, что в двадцать один год дал нерушимую клятву: ни дня без заезда на бабе, это вопрос личной чести. Заправила втайне был убежден: откажись он от заведенного порядка – и потускнеют легенды о его мужской силе, а тогда, понятное дело, сократится власть над организацией. Доктора заверяли: многократные венерические заболевания так ослабили иммунную систему, что Заправила не прикован к постели по единственной причине – организм утратил способность проявлять симптомы. Врачи считали, он настолько прогнил, что втихомолку заключали пари, начнут ли его жрать черви до наступления фактической смерти.
Кроме беспокойства о дряхлеющем теле, Заправилу мучило тревожное знание: невзирая на несметное богатство, он движется к смерти и умрет нелюбимым, непочитаемым, неоплаканным; в ожидании его кончины уже слетаются стервятники, а жизнь в результате оказалась бессмысленнее и безрадостнее существования врожденного идиота, лишенного рук, ног и детородного органа.
От горечи он становился еще жестокосерднее, словно жестокостью доказывал, что пока держится за жизнь, и метался между грезами о бессмертии и фантазиями о зарождающемся романе с грядущей смертью. Жестокость росла, но хватка на ее орудиях слабела.