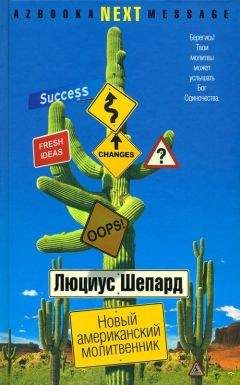— Но я же не говорю напрямую, что речь здесь идет о Боге Одиночества, — сказал я.
— А разве не о нем вы думали, когда писали эти строки? По-моему, очень на него похоже.
— Может быть… Да. Наверное, так и есть. Но как же я мог забыть, что сам написал это.
Роуэн так ловко находил ответы на все вопросы, что мне жутко захотелось задать ему еще один, в надежде на то, что, может быть, он поможет мне избавиться от смехотворной идеи, будто тогда, в Ногалесе, я говорил с существом, которое сам же и придумал. Но я побоялся показаться идиотом и сменил тему. Вместо этого я спросил у него, о чем он помолился.
— Седьмой канал пригласил на теледебаты с вами Арли Макмайклза, проповедника самой большой протестантской церкви в Детройте, — сказал Роуэн. — А мне очень хотелось с вами встретиться, и я знал, что, когда у них случаются какие-нибудь накладки, они могут пригласить и меня. Вот я и решил испробовать, на что способен новый стиль, и помолился, чтобы на этот раз у них что-нибудь не вышло. Через два дня Арли выпал из списка кандидатов. Какое-то срочное дело. Вот тогда-то они мне и позвонили. Простое совпадение, конечно. Было бы нелогично объяснять это чем-то еще, например тем, что молитва может работать. — С этими словами он забрал «Молитвенник» и громко его захлопнул. — Но мне очень хочется в это верить, мистер Стюарт. Вы искушаете меня верой.
В ту ночь в номере отеля «Ренессанс Хилтон» я перелистал «Молитвенник» и нашел более сорока прямых указаний на Бога Одиночества, не считая множества неопределенных отсылок, включая и ту молитву, которую показал мне Роуэн: она была написана с целью помочь одной молодой домохозяйке из Першинга — той самой, что оставила на прилавке Терезиного магазина журнал с моим объявлением, — собраться с духом и избавиться от брака, заключенного когда-то по расчету. Я перечитал молитву, надеясь вспомнить, о чем думал, когда писал ее:
Молитва
для помощи Элизабет Элко в бракоразводном процессе
Полночь — час странного водительства.
Оспины алмазных звезд сверкают на упругой черной коже,
и змеи штопорами ввинчиваются в землю,
ища добычи теплой в крохотных кармашках глубины,
прорытых теми, кто не имеет ни глаз, ни слуха, ни души,
сокровищами чистого белка.
Волчьи духи воют на перевалах,
и ветер к ним доносит
запах не добычи, а бензина.
Дьявол убивает Африку.
Все это знают те, кто молит
о судьбе не столь определенной,
о свободе от старых обещаний,
данных в минуту боли,
от брака, скисшего и пожелтевшего,
как молоко, забытое в картонке,
от жизни, в которую ты втиснута,
как клипера модель в бутылку,
где нет теченья и не нужен парус, —
вот истинный прообраз твоей жизни.
Тиграм, что под конец придут
и унесут тебя, твою пронизав душу
сквозь ковер Вселенной, подобно нити из огня, —
им ведь безразлично, что у тебя на сердце,
чем жертвовала ты, о чем мечтала.
Больше состраданья у зимы или кинжала, чем у них.
Взгляни наверх, сквозь лиственную сетку дней,
туда, где Бога нет, такого даже, что влюбленных разлучает
движением мизинца одного, того, чей ноготь изукрашен черным.
Молись о том, чтоб было знать дано то, что и так ты знаешь,
как если бы то знанье молнии писали на полотне небес.
Молись о том, чтоб снова устремиться в мир,
покинув мини-вэн, застрявший в пробке,
и убивающие душу счета по закладным.
Молись об этом в час водительств странных,
когда мужчины в кондиционированном рае бара
следят как завороженные за бейсболом, политиками и войной,
а фар лучи, пронзив небытия темницу,
касаются зверушки юной, вышедшей из лунных теней,
и, в камень превратив ее, дают ей облик,
угодный ветрам и волшебству, измученным навеки
недвижностью ее уснувшей крови.
Молись, чтоб в чашу твоего вина
единая хоть капля истинного счастья пала.
Я попытался убедить себя в том, что память меня подводит и на самом деле молитва для Элизабет Элко была написана уже после встречи с человеком из Ногалеса, но прекрасно помнил, как мы с ней беседовали под флагами, оставшимися с четвертого июля. Тогда я, по примеру Роуэна, попробовал сделать вид, будто это простое совпадение. Сколько в Америке найдется людей, которые щеголяют выкрашенным черным лаком ногтем мизинца. Сотни, если не тысячи. И значить это может все, что угодно: членство в какой-нибудь банде, или приверженность к сексуальным практикам определенного рода, или, наконец, обыкновенное самомнение. И все-таки странная робость этого человека, его манера говорить полунамеками… И хотя мой Бог Одиночества ни в одной из молитв и рта не раскрыл, я, перечитав их все и проследив черты нарисованного мной характера, увидел, что если бы он заговорил, то скорее всего именно так, как тот человек из Ногалеса. Это соображение навело меня на более чем невероятную мысль: если молитва и впрямь, как я полагал, обладает силой физического воздействия и действует на квантовом уровне, приводя к небольшим изменениям реальности, то разве не мог я пробудить к жизни или даже создать какое-то малое божество, сотворив в своих молитвах нечто вроде формы, в которую натекла божественная составляющая Вселенной? Идиоматические механизмы религии и сказки, желания, целенаправленной воли, молитв, заклинаний, — принимая во внимание все то, что известно о способности разума контролировать тело, разве так уж смехотворно будет предположить, что моя без малого десятилетняя сосредоточенность на новом стиле и Боге Одиночества могла породить чудесную возможность, приоткрыть в завесе бытия маленькую дырочку, сквозь которую четко сфокусированный луч, направляемый мною в несозданное, проник и вызвал к жизни язвительного темноволосого человечка с обвислыми усами? Невероятные мысли, и все же я никак не мог от них избавиться, и когда позже в тот же вечер позвонил Терезе, то, вышагивая взад и вперед по номеру отеля, рассказал ей все о Роуэне, о черном ногте и обо всем прочем и спросил:
— Знаешь, что я думаю? По-моему, у меня крыша, на фиг, поехала. Не только из-за этого Бога Одиночества дерьмового, но из-за публики, телика, вардлинитов, из-за всего. Иногда среди этой кутерьмы мне кажется, будто я инопланетянин, будто я не отсюда, а просто живу временно в чьем-то чужом теле.
— Эй, ты, часом, не заболел? — спросила она.
— Да нет, со мной все в порядке. Просто такое чувство, будто пара винтиков в голове разболталась. Все как будто в тумане. Похоже, ты была права, я еще не готов к такому.
— Осталась всего пара недель.
— Шестнадцать дней. Я их на календаре вычеркиваю, как в тюрьме.
— Здесь тоже все как с ума посходили. Я просто на части разрываюсь, подумываю даже нанять кого-нибудь в помощь Лианне. Сегодня днем прикатил целый автобус с японскими туристами. У каждого было по твоему «Молитвеннику», и все хотели автограф. А утром, когда я только открылась, на крыльце уже ждали люди.
— О господи! Этого еще не хватало.
— Все что-нибудь покупают, но приходят-то, конечно, только из-за тебя. Многие оставляют заказы на молитвы. А почта… У меня тут для тебя уже несколько мешков писем скопилось.
Линия икнула — Терезе звонил кто-то еще.
— Ответишь? — спросил я.
— Нет. Скорее всего, кто-нибудь интервью домогается. Обычно в такое время только за этим и звонят.
— Прости меня.
— Да ничего страшного.
— Но зачем же звонить так поздно?
— Так ведь не вечно будет. — Голос Терезы повеселел, — напускная веселость, подумалось мне. — Зато в городе все в восторге.
— Бизнес кипит, да?
— Ага. Люди спрашивают: «Когда Вардлин вернется?» Думают, что с твоим приездом дела пойдут еще лучше. Если и дальше так будет, они тебе памятник поставят.
Я раздвинул шторы и поглядел вниз, на реку Детройт. Но вместо воды увидел только отраженные огни кранов, судов, складских помещений, которые прорывались сквозь тьму, — кладбище галактик, отслуживших свой век.
— Я соскучился, — сказал я.
— Я тоже. — Потом добавила: — Как только ты вернешься, сразу поедем в пустыню.
— А если я буду засыпать после самолета?
Она засмеялась.
— А ты не засыпай.
Я представил себе тонкую извилистую трубку, аркой изогнувшуюся по кирпичной кладке среднезападных штатов, червоточину, соединившую одиннадцатый этаж отеля «Хилтон» с квартиркой позади «Аризонского безумия», и почувствовал, как вещество нашей близости течет сквозь нее. Тереза пересказывала мне городские новости, а я слушал, счастливый, не обращая внимания на детали и наслаждаясь вспышками цветов пустыни, которые ее голос зажигал в моем мозгу. Повесив трубку, я хотел спуститься в бар около вестибюля, но вовремя вспомнил, что чуть раньше видел там кучку вардлинитов, а на них натыкаться мне совсем не хотелось. Тогда я заказал бутылку «Кетель-1» в номер, сел у окна и стал пить. Три стопки, и над рекой зажглись силуэты недружественных созвездий, зодиакальный круг ножей и топоров. Зазвонил телефон, но я не стал отвечать, подозревая, что это какой-нибудь вардлинит, за взятку вызнавший у коридорного мой номер, или Сью Биллик хочет напомнить о том, что будет ждать меня в Чикаго, или кто-нибудь еще из тех, с кем у меня не было желания разговаривать. И вот, сидя в номере стоимостью четыреста долларов за ночь и попивая дорогую водку, я вдруг подумал, что всем этим обязан махинациям Ванды и невольному самопожертвованию Марио Киршнера. Окровавленный призрак Киршнера давно уже перестал являться мне, проходя сквозь стены, как бывало иногда в камере, но теперь от мысли о том, что его прерванная жизнь послужила топливом моего успеха, мне стало как-то не по себе. В накатившем приступе экзистенциальной нестабильности я почувствовал, как сверхъестественные силы сгущаются вокруг меня, и представил, будто башня отеля «Хилтон» вдруг сделалась гибкой, накренилась и выбросила меня из окна и я лечу, кувыркаясь, сквозь темноту, навстречу до смешного бескомпромиссной судьбе. Снова зазвонил телефон, и снова я отказался поднять трубку. Я пил и пил до тех пор, покуда не исчезли и прошлое, и настоящее, и даже мои чувства, а спектр моего сознания не сузился до щелки, сквозь которую я наблюдал ночь и горящие жаркими огнями машины, и тогда я сделался так же неуязвим для всего человеческого, словно я и был Богом Одиночества.