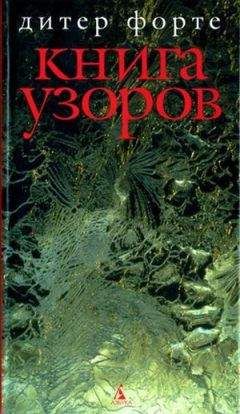Многие из них произносили загадочное слово «Америка», показывали рукой куда-то за горизонт, в поднебесные дали, и в один прекрасный день исчезали, а потом изредка слали письма, которые ходили по рукам, не обещая рая на земле.
Многие предпочитали махнуть на все рукой, они шли в поместье и нанимались на любую работу, какую им давали, на любых условиях, не сопротивляясь, покоряясь тому, что они называли судьбой, столь же неотвратимой, как лето и зима, как солнце и снег.
Но он не хотел становиться в очередь, которая каждую весну выстраивалась перед помещиками и их инспекторами, в ту длинную очередь – слишком длинную, как считали те, перед кем вышагивали эти люди, чтобы много часов спустя наконец-то решиться и выбрать себе служанку или работника, тех, кто будет возведен в высокий ранг услужения при господском дворе, тех, кто благодарно прижмется губами к протянутой господской руке в готовности отдать все, саму жизнь отдать за этого господина, выбравшего их в этом году.
Его отец ушел в шахтеры, в Даброву, не из-за денег, которые он там зарабатывал, нет, из гордости, из-за необузданной, никаким голодом и никакой нищетой неодолимой гордости. Это была гордость, которая питала всю его жизнь, гордость за свою работу, за то, что он может так много работать, чтобы кормить себя и свою семью на этой земле, несмотря ни на что, и, если надо, работать круглые сутки без сна, быть несгибаемым в труде, которым он побеждал свою судьбу, противопоставляя ей свою гордость, силу и выдержку. Он знал, что согнуть его может только смерть, и, пока он был жив, он стоял гордо выпрямившись.
Йозеф Лукаш, забойщик из рудника Кенигсхютте, стоял в последнем тамбуре поезда и сквозь узкое окно смотрел на железнодорожный путь, змеящийся и исчезающий среди фабрик, труб, домов, на быстро и неумолимо исчезающие между сигнальных огней рельсы, убегающие туда, откуда он пришел, и все стремительнее удаляющиеся вместе со шпалами и стрелками, по которым пробегал поезд. Быстро убегающая назад лента из гравия, деревянных шпал и рельсов, которая приковывала к себе взгляд и влекла за собой назад, вдаль, где рельсы спокойно и неподвижно лежали на насыпи, как будто никакой поезд по ним не мчался, как будто там, за горизонтом, где эти рельсы составляли прочный, надежный путь, лежало прошлое, и до него было рукой подать, и оно всегда было там, незабываемое и вечное, то прошлое, из которого он пришел.
Прозрачное голубое небо над бескрайними просторами болотистых земель, спокойный полет орла, крик полевого луня, который взмывал в воздух, гонясь за болотным лунем, оба поднимались высоко-высоко и потом камнем падали вниз. Токующие кроншнепы, которые, дребезжа клювами, сидели на маленьком холмике, из года в год всегда на одном и том же холмике среди высоких трав дельты, теплые и влажные земли которой привольно раскинулись под полуденным солнцем.
Когда поезд, резко дернувшись, остановился, Йозеф Лукаш оправил черную горняцкую тужурку с серебряными пуговицами, надел шахтерскую фуражку с серебряным галуном, с серебряным значком в виде молотка и кирки, украшенную пучком белых перьев. Он хотел ступить на новую землю при полном параде, со всеми атрибутами своей профессии – в наряде прусского горняка, он хотел вступить в будущее с той же гордостью, какой отличался его отец. Он выглянул из окна вагона и по складам прочитал название города: «Гельзенкирхен».
Загорелся сигнальный огонь «Путь открыт», начальник станции взмахнул флажком, Густав Фридрих Фонтана повернул рычаг на «полный вперед», отпустил тормоза и медленно открыл регулятор подачи пара. Пар с шипением пошел в цилиндры, и его локомотив, фыркнув, тронулся с места, таща за собой состав, свистя и выпуская клубы пара, выкатился из-под навеса вокзала, выполз из черно-белого облака дыма, который окутывал его коконом; коротко вскрикнул свисток, с ликованием воспевая свободу и долгожданное путешествие.
Он еще больше открыл регулятор пара, поставил рычаг на уровень нормального наполнения, и машина, разгоряченная, кипящая, дрожа от вожделения, заспешила вперед, покатилась, загремела, загрохотала по стрелкам, выбираясь на свободный, убегающий вдаль путь, потянулась прочь, словно готовая вот-вот взорваться, разгоняясь во всю силушку, магнетически притягивая рельсы, которые быстро исчезали под нею, а через секунду уже оставались позади.
Фонтана наслаждался этим мгновением разгона, этим кратким мигом, когда машина вольно набирала полный ход, а после этого оставалось только послеживать за ней, примечать сигналы, расстояние, которое преодолевалось с бешеной скоростью, боковые пути, которые с нахлесту, как удар кнута, исчезали под локомотивом, стрелки, со стуком пролетавшие под ним. Он чувствовал, как прогибается под ногами железный пол, как дух захватывает на поворотах, как жар обжигает тело, когда кочегар отворяет дверцу топки и забрасывает в красную пламенеющую дыру влажный черный уголь, и дыра, плюясь искрами, глотает подкормку. Он приоткрывал регулятор, и цилиндры выпускали маленькие белые облачка пара, шток поршня мощно ходил туда-сюда, а шатун толкал колеса, которые крутились на блестящих рельсах, как будто на одном месте, но все-таки они толкали поезд вперед, уверенно вели его через хитросплетение рельсов, сдерживали силу машины, выбирали верный путь, ведущий к свободе движения по рельсам, которые, подобно нитям основы, протянулись по всей стране и скоро опутают всю землю, которые ведут в будущее, которым можно довериться, которые соединяют города и страны, а все эти нити удерживает один навой, он их туго натягивает; и точно так же, как когда-то раньше ткацкий челнок с клацаньем проносился через все нити, – так и концы рельсов ритмичным стуком отвечали машине, которая по ним скользила и, подчиняясь стрелкам, перебегала на новую нитку путей.
Вертелись колеса, и шипение улетающего пара увлекало за собой людей, перевозило их в другие страны, вызывало передвижение целых народов. Фонтана видел, как они входят в вагоны и выходят из них на вокзалах; они устремлялись с востока на запад, с юга на север, и машина увозила их далеко, через весь свет, который представал перед их взором, раскрывался перед ними во всем своем многообразии. Люди, знавшие прежде только свою исконную, привычную родину, люди, для которых весь мир сосредоточивался на небольшом пространстве вокруг их собственного дома и на узком круге их жизненного опыта, теперь оказывались на родине других людей, оседали там, но зачастую никак не могли пустить корни, оставались чужими, безродные и бесприютные, отправлялись дальше, в другие места этой земли, в поисках родины, пытаясь превратить в новую родину все более отдаленные и чужие местности.
Поезд катился мимо всех этих деревень и городишек, которые бог его знает где находились, которые не образовывали больше единственного средоточия жизни на этой земле, которые теперь просто оказывались в одном из пунктов на пути следования поезда и были в лучшем случае станциями, на которых он делал остановку, маленькими цветными пятнышками, легким узором, нанесенным на ткань земли, ворсинками на тонкой тугой нити, натянутой между двумя конечными пунктами… Поезд ткал свой узор по всему свету – из стали и угля, из самого движения, из людских надежд.
Фонтана любил это неугомонное движение, этот ткацкий челнок, снующий туда и сюда по заданной траектории, любил момент отправления и свободу самого путешествия, которая тем не менее была строго ограничена и во времени, и в пространстве, ведь с виду свободная удалая гонка, безоглядное упоение неуемной силой заканчивалось с точностью до секунды на запланированном заранее вокзале, на заранее известном пути, в заранее известном месте, – как заканчивал свой ход челнок там, где заканчивался предписанный узор. Все это требовалось выполнить в точности, все точно рассчитанные движения следовало исполнять согласно предписанию, и когда он смотрел на свои железнодорожные часы, сверяясь с расписанием и глядя на подрагивающую секундную стрелку, которая вела за собой минутную, а та завершала час, то он мечтал уже о новом отправлении, о том мгновении, когда ощутит свободу и рванется вперед.
Подземный лабиринт, непостижимый даже для того, кто проводил свою жизнь в кромешной тьме, подобно горняцким лошадям, среди подъемных, вентиляционных и слепых шахтных стволов, среди горизонтов, пластов, очистных забоев, квершлагов, вентиляционных дверей и околоствольных дворов, кто, обливаясь потом, задыхаясь, ползал на карачках и лежа вгрызался в гору. Жизнь, слабо освещенная звездным небом шахтерских ламп там, под землей, ламп, которые передвигались вместе с работающими людьми, скапливались, складываясь в маленькие млечные пути, медленно перемещались по звездному небу подземелья, меняя за смену свое положение, вспыхивали то там, то тут, выходя на предписанную орбиту, а потом незаметно гасли во тьме горы. Этот ход вещей ничем не отличался от передвижения светил там, на земле, где звезды, подобно горняцким лампочкам, следовали по своим траекториям, не освещая тьмы, не напоминая своим сиянием, что там, под землей, тоже сейчас есть люди, – и вот все сливалось в единую ночь, в непроглядный мрак, в котором жизнь течет ровно и монотонно, и вся она – одно непрерывное движение, состоящее из работы и сна, внутреннее, из-за своего однообразия почти неуловимое движение в лабиринте, из которого нет выхода. Жизнь, от которой не уйти, жизнь, в которой ты – пленник, орбита, с которой не сойти. Неисчислимы и вечны огоньки шахтерских ламп в подземелье – неисчислимы и вечны звезды на ночном небе.