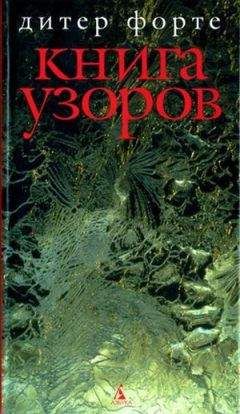Йозеф Лукаш, у которого был свой огонек и свое место на звездном небе подземелья, когда он по ночам в постели, мучаясь одышкой, не мог заснуть, считал вовсе не божьи звездочки на небе, нет, он считал дни, когда ему довелось увидеть солнце, и, сколько бы он ни считал, всегда получалось, что их очень мало. Если Господь Бог создал звезды не для бела дня, то Йозефа Лукаша Он явно создал не для солнца, Он поместил его на небосвод подземелья, где Йозеф серьезно и сосредоточенно, шаг за шагом и год за годом, при свете своей лампы молотком, кайлом и киркой выполнял свою работу. Когда после смены он поднимался на поверхность, была уже ночь, и тогда он, погрузившись в любимые мечты, долго еще, часами, сидел у окошка своей хибарки, смотрел на округу, освещенную слабым светом звезд, на террикон, который рос с каждым днем, в том числе и благодаря его труду, и был уже выше того маленького домика, в котором он жил. Наподобие большой, тяжелой дамбы эта гора породы ползла на поля, разделяла реки и озера, которые образовывались из-за оседания земли. Земля, которая частенько врывалась в пустые штольни, оседала, если под слоем земли образовывались пустоты, – и тогда менялись русла рек и ручьев, возникали озера, в которых отражалось звездное небо, и Йозефу иногда казалось, что он сидит где-нибудь в дельте Обры между плотиной и водным пространством, которое то и дело меняет свои очертания.
Йозеф Лукаш, забойщик из Дальбуша, староста среди шахтеров, они сами его выбрали, несмотря на то что он был вестфальчиком – так называли всех, кто пришел из Восточной Польши. Ведь никто, кроме него, не умел так жестко и непреклонно вести со штейгером битву за зарплату. Никто, кроме него, не мог так точно определять, сколько угля здесь можно добыть, какой слой породы надо снять, рыхлая она или твердая и сколько времени нужно на постройку крепи. А если штейгер пытался зажать их заработок, Йозеф умолкал и терпеливо, не шевелясь, не говоря ни слова, начинал смотреть на штейгера. И штейгер понимал, что у такого человека, который буквально окаменел, который сам превратился в гору, много не выспоришь, и в конце концов требуемые деньги отдавал.
Он был среди них самым молчаливым и самым терпеливым, он мог сутками, не проронив ни слова, сидеть около угля в шахте и выжидать, когда, по его мнению, подземная погода станет благоприятной и можно будет орудовать молотком и киркой или когда устроить взрыв.
Он всю жизнь проработал забойщиком в Дальбуше и умер в своей кровати, которую придвинули к открытому окну, чтобы его забитые сажей легкие «ощутили хорошую погоду», как он сам выразился. Он умер, глядя на горящие на небосводе шахтерские лампочки, которые медленно гасли в утренних сумерках, умер от нескончаемого приступа кашля, выплюнув всю кровь своей жизни.
Густаву Фридриху Фонтана, машинисту локомотива прусского королевства, родившемуся в 1840 году в Изерлоне, суждено было, как и его отцу, начать и закончить свою карьеру в фирме «Киссинг и Мелльманн». Фирма экспортировала знаменитые кофейные мельницы с одногорбым верблюдом на этикетке по всему миру, вплоть до Южной Африки, имела филиалы и склады образцов в Париже, на рю де Паради, 21, в Амстердаме, на Бинненкант, 8, в Берлине, на Риттер-штрассе, 10 и 12 (в первом этаже), на Нойе-Петер-штрассе, 11, и Альте-Петер-штрассе, 43, во втором этаже, – то есть была фирмой с мировой известностью, в которой у его отца была небольшая доля капитала. Поездки агентов фирмы и их письменные рапорты об этом, которые его отцу приходилось изучать, создали в воображении юного Фонтана фантастический образ мира, который постепенно перерос в его заветную мечту. Хотя упомянутые адреса были адресами наиболее знаменитых филиалов, все-таки Фонтана не собирался стать управляющим одного из магазинов. Мир представлялся ему гораздо более подвижным, полным зкзотики и сюрпризов. Гордая, тщательно и заботливо выстроенная империя «Киссинг и Мелльманн» казалась ему какой-то душной крепостью. Он выучился на гравера – в угоду своему отцу, в угоду фирме «Киссинг и Мелльманн» и еще потому, что стать машинистом локомотива можно было, только получив законченное образование в области металлообработки. Позже отец одобрил его выбор: ведь в этой новой и, надо признаться, захватывающей профессии машиниста локомотива дух авантюризма и дух порядка так причудливо переплетались, что любой порядочный бюргер был бы доволен.
Вот так тяга к свободе обернулась строгой деловитой жизнью хорошо осознающего свой долг чиновника с годовым доходом в триста талеров – их выплачивали раз в год. Он женился на Генриетте Вильгельмине Айхельберг, дочери Карла Айхельберга, владельца фабрики металлических изделий в Изерлоне, купил впоследствии дом в Берлине, формально был членом тамошней общины гугенотов, и когда, стоя перед зеркалом, он застегивал пуговицы на своем мундире, проводил по ним для контроля рукой, привычным точным движением надевал фуражку и выпячивал грудь, то он был весь – воплощенная надежность.
Первые годы своей службы он провел в Дюссельдорфе, где на своем любимом «1-А-1» ездил по маршруту Кельн – Минден, который пролегал через всю Рурскую область – через Дуйсбург, Оберхаузен, Гельзенкирхен, Дортмунд, мимо шахт и стремительно растущих рурских городов, мимо гор угля, для вывоза которого и была, собственно говоря, проложена эта ветка.
Во время франко-германской войны 1870–1871 годов он перегонял эшелоны с солдатами на фронт, во Францию, через только что достроенный новый железнодорожный мост. Назад, в Дюссельдорф, он вез убитых и раненых и, выглядывая из локомотива, наблюдал, как выгружали солдат, которые еще совсем недавно ликовали и размахивали флагами, а теперь лежали тихо и неподвижно на носилках или в гробах.
Позже он стал водить локомотив «1-Б» прусских железных дорог из Берлина в Познань, видел на вокзалах толпы людей, окрыленных надеждой, которые стремились на запад, а потом разрозненные кучки разочарованных, которые возвращались с запада. Он видел страну, которая простиралась до горизонта и за горизонт, одинаковая и неизменная, и через много часов пути нисколько не менялась, бескрайняя, бесконечная, и рельсы несли его в эту бесконечную пустоту.
Он верил в будущее, чувствовал себя частью нового, стремительно меняющегося мира и радовался точной, безошибочной работе техники.
Когда его сын, тоже машинист локомотива, врезался в тупиковый упор и погиб из-за того, что кто-то ошибся и неправильно перевел стрелки, он до срока вышел на пенсию. Теперь он редко выходил на улицу, отрастил длинную белую бороду, глаза прятал за толстыми очками, а по вечерам завел обыкновение не менее часа читать Библию. Потом он заводил свои железнодорожные часы и, коротко кивнув жене, шел в спальню, раздевался, тщательно развешивал одежду на тяжелых стульях темного дерева с красной обивкой, ложился в постель и потом до утра, ночи напролет, слушал знакомые звуки, долетавшие с соседнего вокзала, заглушаемые тяжелыми портьерами и темной массивной, дубовой мебелью, и думал о своем. Отправление поезда, прибытие поезда, рычаг отпустить, регуляторы открыть – он ощущал легкое сотрясение колес, когда звякали хрустальные подвески на его ночнике, видел на потолке блики от прожекторов проезжающих мимо поездов; полосы отраженного света пробегали по цветастым обоям, он слушал жалобные, отчаянные свистки локомотивов.
Однажды утром его нашли в постели мертвым. Выражение лица у него было самое благостное.
Мария была доброй и кроткой, она последовала за своим Йозефом из далекой польской глубинки, где Йозеф с нею и познакомился, когда отправился из Гельзенкирхена в паломничество, в Ченстохову. По-немецки она почти не говорила, у нее была мелодичная польская речь, черные волосы, карие глаза, и на мир она смотрела с извечной печалью. Даже если она улыбалась, глаза ее с задумчивостью и тоской смотрели куда-то мимо, в другой мир, которого здесь, в шахтерском поселке, она не находила.
Она заботилась о муже, о сыновьях, но этого никто вокруг не замечал, она работала с утра до ночи, надежная, как часовой механизм, работала со спокойным терпением и молчаливой внутренней выдержкой, которую никогда не теряла на протяжении всей жизни. Она точно и серьезно выполняла изо дня в день свои обычные обязанности, полностью погружаясь в ту работу, которую делала в данный момент, причем делала всегда с такой тщательностью, будто каждое движение, наизусть ей знакомое, она выполняла впервые в жизни и потому сосредоточивалась на нем полностью, да, она всегда радовалась своей работе, и это придавало ее однообразному труду особую значимость, то достоинство, которое, пожалуй, ощущала только она.
Выпекая свой польский хлеб, тесто она месила целый час, не спуская с него глаз, да так усердно, будто это был некий святой обряд, с гордым смирением всецело отдаваясь служению тем людям, для которых работала, и в этом самозабвении не было ей равных.