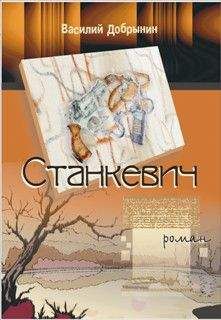— Ушла.
— Ты ей в харю не бил, а? Следов не оставил?
— Не-е, Осип Палыч, по харе не бил. И не трогал. В кутузке закрыл и не трогал.
— Плакала?
— Не-ет.
— Сказал, чтоб в науку пошло?
— Сказал.
— Как сказал?
— Сказал, что на воле ей думать плохо, значит, думать научим здесь. Что, мол, тебе первый урок, для начала.
— Ну, дай бог!
Аленка вошла тихо, чтобы не побудить, осторожно шагнула к проему в комнату.
— Стой! — крикнул он, — Стой там, пожалуйста, я к тебе сам подойду.
«Как?» — изумилась, готовая категорически возразить, Аленка, но уловила, увидела: он ее ждал, и хотел удивить.
Он шел, приближаясь к глазам и улыбке Алены. Увидел, как засветились в глазах ее искорки. И его лицо озарилось улыбкой. От этого он зашагал неожиданно ровно, быстрее и легче.
— Спасибо, Аленка! — сказал он достигнув ее, целуя, — Ты знаешь, как я этого ждал!
— И я…
— Ну, вот, милая, вот… Я пришел. А ты знаешь, зачем я пришел? — он шутил, и ни боли в глазах, ни войны, не угадывала Аленка. — Пришел сказать: ты права, — не бросают любимых, Алена! Я твой. И останусь твоим.
— Ты что, Алеша?... — слезы мешали Аленке, — Я так ждала, что ты это скажешь… Мне только с тобой это нужно... Жизнь нужна только с тобой! Потому что есть ты! Люблю! Без тебя, у меня ни чего не будет. Мне будет не нужно…
— А главное, — Леша увлек, проводил Аленку, чтобы она присела, — я дошел до тебя!
За окном, туманностью звездного неба, прошла, поравнявшись орбитой с Аленкиным домом, тень холодной дождливой ночи. Ночи, с тележкой стекольщика. «Ты легкий, — сказала Аленка, однажды, когда он спросил, — нам, с мамой, было совсем не трудно…». Он больше не спрашивал, и не сказала она о босых, исхудалых ступнях наружу, из-под дерюжки. Хитрость двух женщин: придать, во имя спасения, вид покойника. И ветер: бивший струями злого дождя, солонеющего в глазах одиноко бредущей мамы, в туманности, — давно все стихло.
— Я спал, не услышал: стучали. Поэтому сбили дверь. Из депо приходили. Я завтра пойду к ним, на работу.
— Как, Алеш, да ты что?
— Ты же видела, я хожу. А депо, — это лучшее, что человеку для смысла жизни, надо. Получу аусвайс, и не надо нам прятать меня. И могу быть с тобой, быть твоим.
— Как ты сможешь, Алеш? Не видели, что ты болен?
— Смогу! У меня теперь камень с души: я тобой рисковал, Алена. А напильником грюкать, я точно могу.
— Только не на паровоз!
— Какой паровоз, я в него не заберусь…
— Умоляю, Алеш, только не на паровоз, хорошо?
— Ну, — пожал он плечами.
— Алеша, обещай — ты не сядешь на паровоз!
— Не сяду…
— А-а, Тулин? Ждали тебя мы, ждали. Ох, е-мое, да какой же с тебя работяга? Ладно, хотя б аусвайс и паек, получишь. А ведь ты машинист?
— Был.
— Ну, машину знаешь, учить не надо. Ремонт, стало быть, по зубам.
А зубы нужны были крепкие, и силы рабочей — много. Вагоны, и паровозы-калеки, шли в депо каждый день. Война разрывала на части, калечила, жгла их за то, что они могли двигаться, значит, как люди, служили войне. Воевали тоже.
Поняв, что Тулин перехватил его наблюдающий взгляд, мастер Гнатышин, спросил
— А ты знаешь, что коменданту сказали, когда аусвайс тебе делали?
— Нет.
— Что ты на железной дороге, под Оршей работал. Попал на подрыв, стал калекой, а теперь переехал к родне.
И добавил:
— Забавно: ведь к нам, — не на площадь отправили. Ангел-хранитель? Судьба?
Легкий испуг предвкушал он увидеть в глазах изможденного, покалеченного человека, а, столкнувшись взглядом, испуг ощутил вдруг в себе. «Зачем ты сказал об этом?!» — прочел он в холодных зрачках Алексея Тулина.
— Ты очень молод, — примирительно согласился Гнатышин, — все может быть: и Судьба, и баловство с ее стороны. Лично я же случайностям не доверяю. Причина всему есть…
— Не верь, — сухо ответил Тулин.
В дверь к Аленке вежливо постучали. «Осип Палыч?!» — удивилась Аленка. Опешила, отступая, не зная, что говорить...
— Что-то с дверью, Ален, — Осип Палыч вошел уверенно, обернулся, ощупал косяк и шарниры, — непорядок, а?
И улыбнулся, отряхнув одна об другую, ладони.
— Сломалась — сказала Аленка.
— Ну, да ничего. Ведь стоит. Посторонних не пустит, так?
— Ну, — пожимая плечами, сказала Аленка, — стоит.
— Когда вот, стоит, — он опять улыбался, — Ален, — хорошо. Хорошо! Плохо, когда не стоит. Но ты мне вот что скажи, тебя Пашка мой, не обидел?
— Да нет, Осип Палыч.
Халатик, который наверное, мама купила Аленке еще подростку, потертый, но стираный, свеженький, делал ее угловатой немного. Но открывал, боже мой, ее ноги, до самых, до самой, почти что…
— Алена, — решился пройти в ее комнату, Палыч, — Ален, да, ты знаешь ли, что я пришел? Я, вот что… Я же тебе, со стекольней помог?
— Да.
— У-ух, да так, ничего ты живешь, Аленка? Кровать вот такая. Широкая, а!
Он сел на кровать и отставил винтовку. Может быть спохватился: не зря ли отставил? Но тянуться к ней снова, было бы просто нелепо.
— Так вот, помог, и еще помогу. Ты скажи только, как? Ну… Ты хочешь чего? В чем нуждаешься, а? Я могу. Все могу, Ален!
«Дурак! — свечением, как-то похожим на то, что блуждает в полярном небе, мелькало в глубинах души, — ты же мог ее, Осип Палыч, уже и не раз…» Терял он себя, отчего-то, при ней. Но хотел, господи, как он хотел ее…
Она, отступив, стояла напротив, скрестивши руки. От этого вверх, по животу, под грудь приподнимался и без того короткий подол халатика.
— Ну, вот, Ален, например, пайком. Или как его там, фуражом — тьфу ты-ё, — мануфакт... Ну одежда красивая, в общем. Для женщин. Красивая ж ты, Ален! Вот, тебе! Я могу, — у тебя все шкафы будут, во! — показал он ладонью над головой. — Такие платья, бельишко, ты знаешь: трусики-лифчики — шелк. И для тела — одно удовольствие, знаешь? Ты знаешь, Аленка, какое от них удовольствие, — этих вот, трусиков шелковых, а?...
Губы Аленки сжимались: один уголок она, пряча волнение, втягивала, и, не замечая, кусала. Пальцы приподнятой вдоль отворота ладони, теребили краешек, как раз у той самой ямочки, между ключиц.
— Оно пусть не новое, но все поглажено, чисто, Ален…
— Их заставили все это снять, а потом убили?
— Ален, да не только. Вот, тьфу ты-ё, — из шкафов конфискуют... Ален, — протянул он руки, — ну, подойди.
Она раскрестила руки. Убрала их за спину.
— Ален, — подождав, опустил он голову, — ты понимаешь, люблю. Вот, чего же я так? Я люблю… Из-за этого все…
Он чувствовал, как отшагнула она от стены. И губки она теперь не кусала. Они раскрылись, тайно, чуть слышно, вздыхая.
Сидеть истуканом теперь было глупо.
— Не веришь, Аленка? Конечно, не веришь. Зря…
Не двинулась с места Аленка. Отвернулась, припала плечом к равнодушной стене, как будто стала пониже, поменьше. Лицо скрылось в лодочке сложенных вместе ладоней.
— Я, знаешь ли, может быть, человеком мог стать. Тебе — вообще бы все сделал... Пойми, ни кому не скажем. Я ведь понимаю — свое у тебя может быть; у меня — свое. А что мы с тобой — это полная тайна. Гарантия — это, сама понимаешь, — я точно тебе обеспечу!
— Не хочешь, Аленка? — приблизился он. Ладонью, тихонько, подушками пальцев и только, прошелся по спинке. Легонечко чиркнул, направо-налево, у самой талии.
— Вот что, — почувствовал он что растаял, как и тогда ушел снова последний шанс. — Я тебе, все, понимаешь, с душой, рассказал… Не надо тебе по-хорошему? Нет? Значит, смотри, — и не будет! Не будет, ты слышишь? Ну все, я пошел!
Ждал, что она остановит. Но она и не шелохнулась.
— Прибежишь! — сказал он и захлопнул дверь.
— Мам, это я, открывай!
— Господи, Леш? Сам пришел? Боже…
— Да, мам, я уже на ходу. Я работаю, мам.
— Как? Как ты можешь работать?
— Да все хорошо, могу, мама.
— Господи, да хорошо! Значит, не тронут тебя теперь Леша?
— Нет, мама, не тронут. Есть документ. За меня теперь волноваться не надо. А как у тебя-то здоровье, мама?
Мама боялась поверить:
— Как ты пошел туда? Я боялась, о господи! Знал бы, как я боялась, что про тебя вообще узнают… Семеныча, вон, — ты же знаешь?
— Я все, мама, знаю. На людях работаю, все же…
— Голова твоя, сын! Ой, головушка, а… Заявился в депо: а ну, как бы сказали, кто ты. Не боялся? Про мать не подумал?
— Мам, сами пришли.
— Как это сами пришли?
— Так. Пришли из депо и сказали, что рук мол, рабочих, нет. Приходи, тебя ждут. Аусвайс и паек получишь. А что еще надо?
— Как, сами?
— Да…
— Так ни кто ведь не знал.
— И ты за меня, не просила?
— Какой там просила! Ты что? Я боялась. Боялась, сынок, страшенно! Я ж тебя и Аленке-то отдала, чтоб ни кто не знал. Ой, Ле-еш…
Бессильно упали мамины руки.
— Ой, Ле-еш, если б знала, что можно так будет, открыто, пойти в депо, я тебя ни за что, знаешь ли, ни за что бы не отдала Аленке...