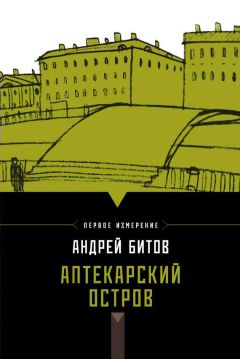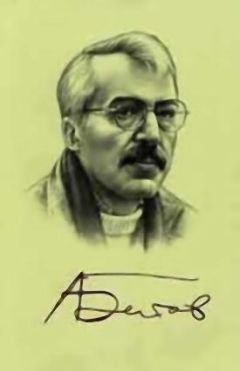Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все тем временем продолжалось. Надо было открыть глаза на это.
Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту… Срезанная столом призма света оперлась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходя и оседая, скручиваясь в галактические спирали, и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любуясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело… Непостижимое чудо. Да, будь сейчас XVII век, совет Декарта пришелся бы кстати, и я вылежал бы сейчас, в позе интеграла на своем боку, два-три классических закона, будь я Паскаль, конечно… Что-нибудь о воздушных потоках, или дисперсии частиц, или непрозрачном теле… Интегральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если оно еще не было открыто… Некий победный вихрь — торжество закономерностей — творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости: законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму практически без риска, что я могу проникнуть хоть в какой завиток Творения. И как было ясно, что не стоило его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической, там, механике и математике, но и вообще — все, и то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался и даже — не лежавшему в моей позе три века назад, по совету Декарта, Паскалю… «Торжествующая закономерность», — повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого я в данный момент, как только мог, неполномочно представительствовал… торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления: — ующее, — ующая, — ующий — что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законишко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем — ующем длении обходиться так, как будто его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние, не соизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли… Вдохновенная радость охватила меня от зрения этого мечущегося перед взглядом праха вдохновенная радость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок проносился я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой… куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках — расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стряхивая пыль с колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, проносясь навсегда? Господи, как не страшно на самом деле, что Ты есть. Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на Твоей карусели! Рассеянный свет… куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой… И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый бы ни был, — о! Свет — всегда весь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает…
Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем… осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она — всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело: как бы луч наткнулся на луч… интерференция, что ли?., родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама!..
— Проснулся! Что хочешь на завтрак?..
— Я бы выпил бульону.
Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта… Бульон обжег мне нёбо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету и все с таким трудом належанное одухотворение…
…………………………………………………………………….
Я так хотел продолжить — и так не мог…
Срок миновал. Выжил… Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой нашей рассеянности… И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то… растет впереди. Впереди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет.
Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней время пойдет в своем подлинном направлении — вспять! Только — никаких ретроспекций!.. Просто сначала Дом наш выживет из стен своих то жутковатое учреждение, его поглотившее; затем, первым делом, воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в далекое будущее, восстанет Дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке; помолодеет мать… Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали… Оживет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором, вдруг я закричу от первого шлепка и — рассказчик еще не родился. Как изменится мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня?.. Как все заплещет и заиграет счастьем!
И вот — буквально ничего не произошло. Все — унеслось в будущее.
Цокая по булыжнику, подкатит экипаж; дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживаемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом — догадаюсь… у дамы из-под рюшей чуть подобранной юбки обнажится повыше башмачка… какая хорошенькая ножка! Какая красивая, какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда просыпалась, как горох? Губастый, в белокурых локонах мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной, — мой дядя раньше всех ощутил свое призвание… а вот и тетя, узнаю ее по носику, да ей и двух нет — что о ней говорить… и вообще не так уж и хочется мне их особенно разглядывать — взгляд мой прикован к другой девочке: только она способна так всему удивиться, только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза… Мама! Мамочка… Не бойся, ты меня не знаешь… Как же тебе интересно сейчас… Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи… Какой новый дом! Какой большой! Неужели это ты будешь в нем жить, девочка моя?..
Какой и впрямь занятный, непохожий на другие дом! Никто еще не знает, что ты — в стиле начала века, что ты — модерн, что ты «либерти»… Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня в неразличимую даль будущего, и почему-то это меня все меньше занимает… Не про то ли я когда-то потом расспрашивал мою мать? Будто был ли я?.. Но вот — и нет меня.
Какая же это когда-нибудь будет книга! Ах, надо торопиться… Может, еще не поздно?.. Может, еще не…
ДВОРЕЦ ВЕЗ ЦАРЯ
[Открытка]
У нас в Ленинграде (б. С.-Петербурге) было принято считать, что наша Дворцовая площадь — вторая в Европе. В каком смысле? По величине или по красоте? И после кого-чего она вторая? Тут мнения расходились. Но — вторая. По крайней мере, по площади…
В Петербурге, по самой идее Петра, все — САМОЕ. Стараясь отмежеваться, Петр как раз российской традиции и последовал, ее и выразил. У нас и собор самый большой (тут уж никто не говорит, что самый красивый). И даже мечеть у нас самая большая, опять на втором месте в мире. По количеству каналов мы уступаем лишь Венеции и Амстердаму, а по поверхности воды их зато превосходим. Самая большая в Европе пальма (оранжерейная), самый большой на столь северной широте слон… Сфинксы у нас, хоть и древнеегипетские, но уж безусловно самые северные. В смысле Севера у нас вообще все в порядке: тут, за шестидесятой параллелью, мы самый большой в мире город. У нас классицизм и барокко будут как бы чуть поточнее, чем в Европе, чуть более классичны и чуть менее барочны, ибо у нас стремление догнать всегда означало подавленное превзойти.