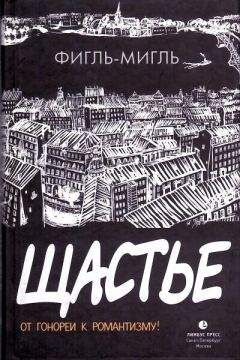Я спросил фарисея, не видел ли он чего необычного. Фарисей сказал, что необычного видел много, и пусть я уточню. Я задал тот же вопрос Мухе, уточнив, и получил недоумённый, но резко отрицательный ответ. У меня был выбор: списать шутки освещения на усталость или на проклятие. Я выбрал первое.
Этот день был и днём моего триумфа. Начальник милиции оказался пуст, чист, невинен. Я даже испугался, как бы он, вкупе с половиною себя, не утратил Другую Сторону вообще. Но Другая Сторона не утратилась — она только стала такой, каких я никогда прежде не видел: пустой простор, ни одного желания, ни следа мечты, ни обломка памяти; ничего, кроме страха (но и страх был каким-то бессильным, безжизненным, никчёмным). Проверяя, я погладил клиента по щеке, и он покорно закрыл глаза. Я не стал доводить дело до слёз.
«Ты ведь понимаешь, что в начальники милиции он больше не годится, — сказал я Протезу. — Ты это с самого начала знал», — сказал я.
Во дворе собирались ребята, которых Протез отрядил провожать нас до границы. Вещи уже были вытащены в прекрасное воскресное утро. Расчувствовавшийся Крот стоял рядом с Мухой и изливал свою скорбь, хлопая моего друга по спине, отчего тот гнулся тростинкой. Фиговидец вышел в ватнике нараспашку. (Стало так тепло, что ватник он надел прямо на майку — белую майку с номером «семь», в которой вчера рыжий забил два гола и сделал голевой пас. Все откуда-то знали, что это подарок, и всем, наверное, до боли хотелось знать, каким образом чужак получил в подарок молёный фетиш всех болельщиков, — и кто-нибудь, очень может быть, знал, но помалкивал. Сам парень лежал в санчасти с распухшей ногой — действительно, значит, незалеченной. Такие победы быстро превратят его в калеку.)
Стоя рядом с Протезом у окна дежурки, я чувствовал, как Протез хочет что-то сказать, и ещё чувствовал, что всё-таки не скажет. Всё, что он сделал — бегло дотронулся, невесомо провел паучьей лапкой по моему предплечью, и уже в который раз я ощутил себя амулетом: приносящим удачу, но прежде всего требующим, чтобы его задобрили. Мы мирно простились.
2
Я сел на ящик с валютой и подставил лицо солнцу. Как прекрасная светлая река, лежала перед нами, поперёк нашего пути, дорога. Сразу за ней начинался лес, деревья уже в ощутимом, хотя и бледном-бледном облаке листьев.
— Где лес, — говорит Муха, — там и волки, — И мысль об авиаторах обжигает его ужасом.
— Лес, лес, — бубнит Фиговидец. — Это парк. Видишь, зелёное на карте. Теперь-то нам точно направо.
«Дикие места там, на севере, — говорил Протез. — Что оттуда везут — сырьё, древесину… Электростанция там у китайцев большая, плантари, — он качал головой, — ну, сам понимаешь, не приведи тебя Бог сунуться…»
— Ну что? — спрашиваю я толмача.
— К вашим — налево, — кивает китаец в сторону (если верить карте) реки. — Китаец вас туда отведёт?
— Нет, — говорит Фиговидец сердито. — Китаец отведёт нас направо.
— Налево, — кивает китаец. — Рыбаки, большой посёлок. Белые люди. Не злые.
Муха смотрит на меня, я — на Муху. «Нет, — говорю я, — оттуда мы уже не выберемся, разве что на П.С.»
— Что в той стороне, куда нам надо? — поворачиваюсь я к китайцу. — Китаец боится чего?
Фиговидца напрягает строение фразы, остальных — её смысл. Китаец бесстрастно переводит взгляд на Муху, на меня. Левой рукой он осторожно ощупывает свой ошейник. Муха нервно, машинально дёргает поводок.
— Отстегни эту чёртову удавку! — заорал фарисей.
— Не отстегну.
Они уже дважды цапались, объясняя друг другу значение слова «гуманизм». «Ты бы обрадовался на поводке ходить?» — наезжал Фиговидец. «К китайцам попадёшь, так не ходить будешь, а на культяпках ползать, — огрызался Муха. — Если повезёт». Каждый из них, быстро выяснив, что имеет дело со слабоумным, постарался свести спор к ритуальным (и пока словесным) тумакам. («Разговаривать — это слишком нервное дело», — жаловался мне когда-то кто-то.) На этот раз обоих хватает только на то, чтобы обменяться мрачными взглядами.
— Тебе китайца жалко, а нас не жалко? — сказал наконец Муха. — Что мы без толмача будем делать?
— Он не сбежит.
— А если сбежит?
— Да и пусть сбежит. Он, похоже, всё равно ни черта не знает.
— А если он сбежит, а потом с дружками вернётся?
— Китайцы с Охтой торгуют, — неожиданно сказал толмач.
— Что?
— От китайцев фуры на Охту ходят.
— И что возите? — поинтересовался я.
— Китайцы всякое продают, — уклончиво сообщил китаец.
— Вот-вот, — взвизгнул Муха, — и тебя тоже продадут.
Пока я размышлял, не отдаться ли, действительно, на милость китайцам, Муха довёл себя до истерики, простейшим образом избавляясь от страха, растерянности, желания заснуть и проснуться в каком-нибудь далёком прекрасном месте. «Протез мог бы нас и на свою какую фуру посадить, — заныл под конец он. — У них трафик, у них…»
Тут меня удивил Фиговидец, у которого гуманистические идеалы как-то сочетались со способностью быстро и правильно анализировать.
— Ты что, не впёр? — рявкнул он злобно. — Протезу только на руку, если мы здесь в ближайшем болоте загнёмся. Он нас и отпустил только потому, что не придумал, как по-другому убить. Или ему очень надо, чтобы мы по всем провинциям пошли языками трепать, как он у себя с олигархами разруливает? А сам-то кто?
— Пока не олигарх, — сказал я. — Всё. Идем направо.
Не переходя дороги, мы пошли направо, чтобы через полчаса упереться в непролазные промышленные руины. «Твою мать», — говорит Муха. Мы все с ним согласны, но этого, к сожалению, недостаточно. И вот мы форсируем дорогу (от которой тоже большого толка нет, поскольку она словно под землю уходит, пропадая в развалинах) и тащимся по кромке леса, озираясь и прислушиваясь и всё глубже проваливаясь в лес. «Днём они редко нападают», — уныло говорит Муха.
Они нападали на рассвете и в любое другое время суток. Они грабили. Они калечили. Они поджигали дома и смотрели, как обитатели домов вываливаются из окон. Их игры с огнем всегда заканчивались мучениями и смертью чего-то живого. Они умели нанести некрупной собаке от тридцати до ста ножевых ран. Говорят, они никогда не планировали убийства заранее — просто у них отказывали тормоза. Их главари были главными клиентами снайперов: их заказывали профсоюзы, дружинники, менты и вскладчину жители пограничных кварталов. Иногда на них устраивали облавы, иногда облава была удачной. Тогда они добивали своих раненых, уходили и через недолгое время появлялись с новым главарём, ещё более отмороженным. Им было всё равно, они носились по округе чёрным страхом, страхом в чёрной коже — эти банды малолеток (самые страшные — из одних девчонок не старше шестнадцати лет), которые никого и ничего не боялись, не боялись убивать и по неизвестной причине называли себя Авиаторы.
Вдруг (как к нему ни готовься, «вдруг» — это всегда «вдруг») китаец дёрнулся ко мне, дёрнул за куртку. Мы огибали небольшой овраг, и в одну сторону от нас виднелась приятная полянка, в другую — камни, кусты и молодая поросль вокруг старых сосен. В эти-то кусты, прочь с открытого места, вся экспедиция рванула беспрекословно и (как уж получилось) бесшумно.
И вот мы глупейшим образом залегаем в сыром и не слишком (когда ещё эта зелень станет буйной) укромном месте, поджидая тех, кто появится. В нос мне бьёт сильный запах природы: и чего-то мёртвого, преющего, и чего-то живого, прущего из земли. По безнадежно сухой ветке бежит энергичный жучок: и букашка, и ветка отливают влажным красно-коричневым блеском. Бледные молодые папоротники нежно щекочут руку. Неожиданно (стоило нам замолчать и затаиться) я понимаю, сколько в лесу птиц. Сколько здесь всего.
Первой появилась девчонка, совсем соплюха: маленькая, худая. Она шла через поляну, одной рукой подкидывая и ловя кастет, что-то насвистывая, одетая так, как одевались у нас проблемные школьницы: грубые ботинки, толстые чёрные чулки, короткое чёрное пальто расстегнуто, под пальто топ и короткая кожаная юбка; маленькая круглая шапка натянута на глаза, волос не видно, на тоненькой шее в три ряда наверчены крупные красные бусы. Точно ли я разглядел (и тогда ли увидел круглые, тёмные, счастливые глаза), но она сияла.
— Как он её учуял? — прошептал Муха.
Китаец прижался к толстому стволу дерева так, что чуть ли не наполовину в него ушёл. Я лежал рядом с Мухой за камнями, остатками какой-то стены, и достал было, даже сунул в рот сигарету, но на меня со всех сторон зашипели. Было что-то не по-хорошему нелогичное в том, что мы, трое здоровых мужиков (плюс Жёвка, плюс толмач), валялись в грязи и молили Бога, чтобы этого ребенка пронесло мимо.
Девчонка остановилась. Она ждала, радостно улыбаясь, играя кастетом — неотразимо распутная, юная, разгорячённая и влекущая. Я смотрел, как переступают ноги, чуть раскачивается тело, а всё вокруг — лес и весна — отзывчиво набухает похотью. Она облизнула губы — словно нарочно, словно догадываясь, как пересыхает рот у подглядывающего. В каждом её движении было обещание незабываемого полового акта. И кастет порхал в забавлявшейся руке.