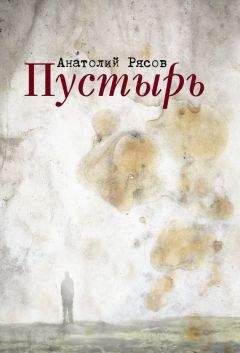Конечно же, никаких дел у Тихона не было. Он и сам мало представлял, куда идет. Но он каждый день уныло бродил по поселку, вдыхая кислый воздух, поддевая развалившимися, многократно чинеными башмаками трухлявые шишки, без всякой цели, шел вдоль заборов, и даже впадал во время этих прогулок в какое-то блаженное забытье. Просто ему нужно было как можно дальше оттянуть возвращение домой, где его ожидал обед из пустых щей или кислой окрошки да вечно пьяные отец и мать, которые либо спали, либо просто валялись, фыркая под лоскутным одеялом. И ему там ничего не оставалось, кроме как сжаться в углу в неподвижный комок, положив руки на колени, прикрыв ладонями беспризорные заплатки. Да, никаких дел не было. Точнее сказать, все свои сегодняшние дела Тихон уже сделал. Этим утром он наловил в мокрой траве кузнечиков и, набив ими карманы, подкараулил священника. Дождавшись его ухода и убедившись в том, что Лукьян не собирается возвращаться, он раскидал стрекочущих жуков по террасе, предварительно оторвав каждому по лапке, чтобы они не успели далеко упрыгать. Сам же вылез за забор, на заросший лопухами пустырь и, спрятавшись в мокрых зарослях, ожидал его возвращения, держа под прицелом взгляда обвитую тонкими жилами тростинок террасу. Утренний обход села обычно занимал у священника не больше часа, и расчет должен был сработать. Но Лукьян Федотыч почему-то задерживался, и кузнечики, несмотря на оторванные лапки, всё-таки успели за это время разбежаться, да и возившийся с бродягой священник, возвращаясь в дом, не больно-то смотрел по сторонам. Тогда Тихон, рискуя быть замеченным, улучил момент и, вынув из кармана последнее, сохраненное как раз на этот случай насекомое, высадил его на перила террасы. Действовал он так быстро, что даже оцарапал босую ногу об торчащий из плинтуса летней беседки гвоздь. Едва он успел сквозь проем в заборе нырнуть в свое укрытие, как Лукьян уже ступил на сгибающиеся доски, и началась знакомая немая сцена и убогие телодвижения с веником в руках.
Развлечение это родилось из случайного наблюдения: однажды, около года назад, Тихон заметил, как прогуливавшийся по селу Лукьян в ужасе замер перед выпрыгнувшим на дорогу кузнечиком, словно перед ядовитой гадюкой. С тех пор Тихон и начал подкидывать ему этих насекомых. Благо, ловить их он умел хорошо: его друг Сашка уверял, что это самая лучшая наживка, но поскольку рыбы в прогорклой речке давно не водилось, они скармливали насекомых курам. К тому же это было намного интереснее, чем кидаться в куриц гнилыми яблоками. Куры, толкаясь, отбирали кузнечиков друг у друга, норовя побыстрее склевать угощение, разрывая тельца несчастных на неровные кусочки, хрустевшие в их желтоватых клювах. Мальчишки ловили кузнечиков повсюду: на пустырях и по обочинам дорог. Но больше всего прыгунов скапливалось на берегу, у заросшей ряской реки. И как они были удивлены несметному количеству расцветок и размеров! Оранжевый, желтый, зеленый, коричневый – такой пестроты никак нельзя было ожидать от этих неприметных сверчков. Сашка изобрел быстрый способ ловить их: он притащил из дома старую отцовскую доху, которую волок по мелкой траве шерстью вверх. Попадая на поверхность ворсистого ковра, кузнечики теряли всякую опору для прыжков и становились легкой добычей. В другой раз мальчишки принесли на берег реки корыто с водой и принялись загонять попрыгунчиков туда – в воде их оказалось ловить еще проще, чем на шерсти. Еще удачный улов гарантировало прохладное утро – в эти часы размокшие от росы кузнечики повисали на стеблях травы и свободно давали взять себя в руки. Хранить их по нескольку дней можно было в пустых бутылках с заткнутыми травой горлышками.
Но истинный смысл все эти умения обрели лишь после того, как Тихон обнаружил боязнь священника. Ему казалось невероятным, что он может напугать того, кого уважает и побаивается вся деревня. Тихон не просто чувствовал себя владыкой над кем-то еще более слабым и жалким, чем он сам, нет – сам того до конца не понимая, он властвовал над властвующим, он как бы замыкал весь круговорот власти, и это было непостижимо. Он обладал тайными силами. Не понимая сам, как он посмел, он продолжал подбрасывать насекомых. Ему было невдомек, что может быть страшного в этих безобидных существах, для умерщвления которых достаточно лишь сжать кулак. Как этот важный бородатый батюшка в действительности мог быть таким жалким трусом? И об этом никто не догадывался! Он словно срывал с него карнавальную маску, обнажая подлинную заурядную, ничем не примечательную, трусливую физиономию. Самым рьяным поступком было высаживание кузнечиков в церкви, тогда он наловил около десяти штук и умудрился прошмыгнуть в церковь и незаметно рассадить их перед службой, пока Демьян топтался за алтарем, на самых видных местах, включая иконы. Лукьян в тот день отменил службу, сославшись на внезапное недомогание, и лишь боязнь наказания помешала тогда Тихону объявить во всеуслышание об истинной причине преждевременного закрытия дверей храма. Впрочем, само сохранение тайны являло для него особенное, не сравнимое ни с чем удовольствие. Эта проказа была настоящим праздником. И даже Сашке он ничего не стал рассказывать.
Но в этих, в общем-то, гадких поступках таилось нечто большее, чем желание напугать Лукьяна Федотыча. Мальчик еще не осознавал главного: именно тогда, когда в первый раз он подбросил священнику кузнечика, у него родилось странное ощущение, что он – сам по себе. Он впервые почувствовал себя, понял, что Тихон – это он, а не кто-то другой. В этот миг и начался его первый, ясный, восходящий день, когда он, наконец, появился и стал отличен от всех существ, отделен от них достоверностью собственного существования. Жизнь захватывала, вдыхала его, вовлекая в свое беспокойное движение. И он еще не мог понять, подходит ли оно ему и в чем именно. Но он чувствовал, как его насквозь продувает этим ветром. Как будто впервые увидел свое отражение в зеркале, но еще точно не уверен, ты ли это или кто-то незнакомый. Как будто впервые начал понимать, запонимать, что с тобой стрясается. От этого внутри него развертывалась какая-то непонятная радость, смешанная с тревогой и опасностью. Его пьянило неожиданное обнаружение жизни, и он с необъяснимой, сладостной радостью смотрел даже на моросящий дождь, оседавший на скукоженных листьях. Волны восторга растворяли серость и скуку в нестерпимом, неистовом свечении. Он понял, что все события, которые способны случиться с кем-то еще, какой-то сухой пустошью отделены от него, и точно так же всем окружающим нисколько не понятно то, что происходит с ним. Никто никогда не видел его таким, каков он на самом деле, да и он сам не ощущал принадлежности себе до этого момента. Потому что его и не существовало. Это были первые шаги в неведомом пока направлении, но эту поступь он ощущал уже как часть самого себя. Он самостоятельно решил подбросить Лукьяну кузнечиков, никто не принимал за него этого решения. Он что-то сделал сам. Да, что-то мелкое и, пожалуй, даже подлое, но какая теперь разница? Главное, что этим решением он как будто перевернул весь мир. Когда-нибудь он сумеет совершить что-то невозможное. И это было невероятное открытие, последствия которого в тот момент он с трудом представлял: среди множества существ, живших в мире, именно он оказался вот этим конкретным мальчиком по имени Тихон, выхваченным во всей своей очевидности и бесспорности существования из пропасти столетий. И это неощутимое открытие, конечно, его поражало. Но одновременно и ужасало – ведь никто из окружающих, кажется, ничего не понимал, для них он по-прежнему был обычным мальчишкой, каких множество. Казалось, что они сами, если и испытали когда-то ощущение подобного открытия, то давно позабыли о нем. Как они могли?.. «Я есмь» – эти слова произносил в церкви именно священник, может быть, поэтому именно он и был бессознательно избран объектом нападок Тихона. Он ужаснулся мощи этого головокружительного потрясения, его тело словно было сметено космическим вихрем – его собственной энергией, обратившей удар на него самого. И он летел на самое дно бездонной пропасти собственного «Я». И он часто думал, что спустя лет десять, когда вырастет, глянет в глаза священнику (престарелому, но всё еще влиятельному) и скажет: «Знаете, Лукьян Федотыч, смешной вы человек, а ведь это я тогда сверчочков-то вам подбрасывал…»
Проснувшись, он поднял глаза на ветхую, облупившуюся стену, и узрел в ней священное полотно. Словно это не он пробудился, а беззащитная, нагая реальность была застигнута врасплох посреди глубокого сна. Бороздки и впадины, запутанные, лишенные малейшего намека на внешние связи, дышащими зраками сумасшедшей пунктуации мерцали в дебрях забвения. И чем изъязвленней, грязнее и обшарпаннее была та или иная вмятина, тем больше восхищения вызывала она в бродяге, эти трещины и царапины казались ему живыми, дышащими, жгучими ранами текучей и движущейся красоты. Он сидел в бездыханной тиши, полностью очищенной от воспоминаний и мыслей, лишенной всякого намека на бытие, и ощущал нечто неуместное – пульсацию жизни, к которой прикасался и которую вдыхал, которой заглядывал в глаза, и чей величественный взгляд ощущал на себе. И на столкнувшихся взорах расходились зарубцевавшиеся швы, а глазницы становились отверстыми ранами. Эти стигматы на мгновение вспыхивали и тут же гасли в разных частях огромного полотна, но его память успевала запечатлеть каждый из иероглифов боли, невиданных письмен вывернутых наизнанку внутренностей, прочтенных им как зашифрованные послания пульсирующей яви, просачивавшейся между обломками, дышавшей в трещинах, прорывавшейся наружу сквозь шелушившуюся штукатурку, выпрастывавшейся из сырых подземелий. Всё это извивалось сетью таинственных траекторий, которые ни при каких обстоятельствах не могли оказаться сведенными к единой системе координат. Свет, целая бездна света обрушивалась мощными ударами, ликующие лучи прорывали попадавшуюся на их пути материю и бесстыдно пылали в просветах ветхого решета, прожигая в нем новые дыры. И этот прилив воздуха в зазорах между удушливыми складками изъеденной лишаями оболочки он впитывал расселинами раздробленной плоти как спасительный живой ветер, как энергию, взрывающую время, бьющую из иных пространств и пределов, как невозможную силу, которая вопреки всем существующим законам преступно вырывается на свободу, наполняя дыхание серебром. Мир терял свои привычные имена, засвечивал их победительным сиянием первородности. И сам он чувствовал себя причастным к великому таинству, ему казалось, что он в странной пропорции смешивался с повсеместно разлитой сущностью. Он сделал резкое движение, предпринял усилие, и, наконец, полностью выпрямился, сумел встать и дотронулся до одной из светозарных точек. И в одно мгновение он оказался с ног до головы залит таинственным сиянием. Потом, уже оторвав взгляд от полотна, он мог детально анализировать запечатленные образы, открывать таящиеся в них подсмыслы и недосказанности, раскраивать пространство водопадом вопросов. А неистовый ветер продолжал полоскать заплатанные полотнища его памяти, электрическими волнами прокатываться в крови и взрывать артерии. Но он никак не способен был уразуметь, каким образом могло свершиться то, что казалось, ни при каких обстоятельствах не должно было найти себе места в тесном пространстве реальности. И вновь он находил единственное объяснение: ему повезло застать действительность в момент сна – нагой и неприкрытой, то есть в тот единственный миг, когда реальность была самой собой. Или она показалась ему столь прекрасной лишь потому, что он видел ее мельком?