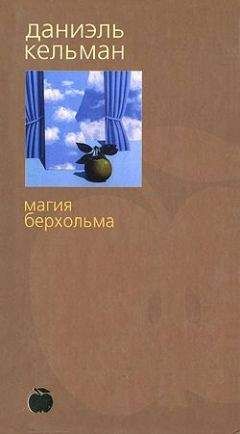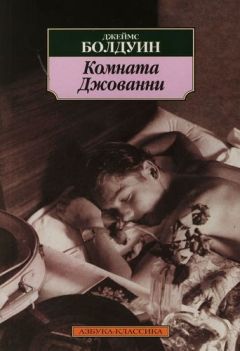Потом, тяжело ступая, я прошел сквозь эхо вымощенных камнем переходов в трапезную, где незнакомый монах молча поставил передо мной тарелку безвкусного супа, кружку кофе и кусок непропеченного хлеба. Я медленно пришел в себя.
Но теперь мне стало лучше. Истерики прекратились; наоборот, я почувствовал, что постепенно успокаиваюсь. Безмолвие больше не таило в себе таких опасностей; стены кельи снова обрели прочность. Как-то ночью я обнаружил, что стою у окна. Глядя в безоблачное, кромешно черное небо. А на нем множество матово светящихся звезд. И вдруг, впервые в жизни, я осознал, что эти миллионы солнц действительно существуют, что они абсолютно реальны, что они – не послание, которое нужно расшифровать, не символ моей судьбы, не искусно написанная картина. Они не имели ко мне никакого отношения, они были далеко и совершенно во мне не нуждались. И как ни странно, эта мысль даже чем-то успокаивала. Немного спустя я лег в постель и попытался вообразить, как движутся небесные тела, как все они по своим орбитам летят сквозь ночь; там, наверху, господствовало беспорядочное, хаотическое движение. Где же располагается тот крошечный неподвижный центр, средоточие пустоты, вокруг которого вращаются все небесные тела? Нужно было его найти… Но, может быть, не стоит его искать. Может быть, этот центр – я.
Потом я проснулся еще раз; мне приснился странный длинный сон. Я встал и подошел к окну. Звезды еще не погасли. Они светились холодным светом, но я знал: каждая из них – пламя, бушующая космическая катастрофа. Они сгорают и когда-нибудь остынут. В сердцевине Вселенной мерцал свет; но медленно, бесконечно медленно, он обессилевал и гаснул. Я потер глаза и опять лег в постель.
Когда я проснулся, уже рассвело. Солнце одолело треть пути к зениту; гудя, как жук, пролетал вертолет да бил расстроенный церковный колокол. На окне, в углу, сидел в поблескивающей от росы паутине паучок и посреди сверкающих капель ждал гостей. В саду приземлилась ворона и принялась клевать червей. Небо было голубым, облачным и высоким, паутина задрожала на ветру. Паук испугался и стал спускаться на канате. Вдалеке залаяла собака; просигналила машина.
Я надел плащ и вышел. Глинистая дорожка начиналась у бокового входа в монастырь и развертывалась до горизонта, где исчезала меж двумя пологими холмами. Пахло землей и влажной травой; ветер усиливался. Он дергал меня за плащ, тянул за волосы и вдруг швырнул мне в лицо заржавевший, о трех зубцах, лист, сорванный с одинокого дерева – дерева у моего окна. Я невольно рассмеялся, и в эту минуту пошел дождь. Я удивленно вскинул голову: в самом деле, несколько желтоватых тучек, потеснив солнце, отбрасывали на землю обширную влажную тень. Дождь падал тяжелыми каплями: я застегнул плащ, поднял воротник и пошел дальше. По голове у меня стекали струйки воды, земля под ногами превратилась в бурую жижу, вокруг барабанили, подпрыгивали и разбивались брызгами капли, травинки танцевали как живые. За моей спиной монастырь прижался к земле, как большой зверь. Теперь дождь зачастил, ветер размахнулся и дал мне шлепающую, сырую оплеуху. Я снова рассмеялся и вдруг понял, что стою под темным, журчащим ливнем. Казалось, весь воздух между мною и небом превратился в обрушивающиеся потоки воды; весь мир хотел раствориться. Скоро я вымокну до нитки. И все-таки я не пошевелился.
Отец Фасбиндер сидел за письменным столом. Перед ним стояла пишущая машинка; клавиши пощелкивали у него под пальцами. Когда я вошел, он опять не повернул голову, и мне опять стало не по себе, как уже было однажды.
– Входи, Артур! Садись!
– Как ты узнал, что это я? – Он ждал, что я об этом спрошу.
Он был явно польщен:
– Я не узнал. Я только предположил. Ну и как было в Айзенбрунне?
– Трудно сказать…
– Странное ощущение, правда? Я побывал там один раз, много лет назад, и чуть с ума не сошел. Трудно было переносить тишину?
– Да, особенно по ночам. Она журчит, как текущая вода.
– Так кровь шумит в ушах.
– Ах вот как. Как просто.
– Почти все на свете просто, Артур.
Я сел, нервно потирая руки, и подождал.
– Ну и что? Подействовало? Сны все еще мучают?
– Нет, прошло.
– Хорошо. Значит, ты больше в себе не сомневаешься? Теперь ты знаешь, чего хочешь?
– Да. Я не хочу быть священником.
Что-то в его лице застыло. Руки приподнялись над клавиатурой машинки, на мгновение замерли в воздухе и снова легли на клавиши. Сердце у меня сильно билось: наконец я заставил себя это произнести. Этот миг стоил мне двух бессонных ночей. Но теперь он позади. Я действительно это произнес.
– Что ты сказал, Артур?
– Ты… ты правильно меня понял. Я… я не хочу быть священником. Теперь не хочу.
Он медленно откинулся на спинку стула и повернулся ко мне; взвизгнули пружины кресла. Его фигура вдруг показалась мне худой и резко очерченной. Я не решался на него взглянуть и смотрел на коричневые кожаные корешки книг за его головой. Имена авторов, тисненные золотыми буквами. Одинокий луч света упал сквозь неплотно заделанное потолочное окно, наискось пересек комнату и провел на стене светлую окружность.
– И что же, – спросил он, – заставило тебя передумать?
– Трудно сказать… За последние недели у меня появилось чувство, что я изменился. Такое ощущение, будто…
– Это из-за женщины?
– Нет! – крикнул я. – Правда же нет! Это глупо, наконец! – (Солгал ли я тогда? Я спрашиваю тебя: солгал?)
– Ах вот как. Тогда мы, вероятно, выбрали другое поприще. Ты предпочел стать фокусником в варьете.
– Нет, ни за что! – (И тут, клянусь, я говорил правду!) – Это… недоразумение. Я просто осознал, что не гожусь для…
– Если бы мы полагали, что ты нам не подходишь, я бы здесь сейчас с тобой не говорил. По этому поводу можешь не беспокоиться!
– Нет, не в этом дело.
Внутри луча был заключен рой серебряных пылинок, они танцевали в такт неощутимому сквозняку.
– Ты совершаешь ошибку и когда-нибудь будешь раскаиваться. Подумай, что ты делаешь! Если ты сейчас уйдешь, то вскоре поймешь, что был не прав, но все-таки не вернешься. Ведь ты высокомерен, Артур.
– Я тебе объясню…
– Ты не обязан ничего объяснять.
Луч погас, – вероятно, туча закрыла солнце.
– Не стоит придумывать аргументы, дело не в этом. Сейчас решается твоя судьба. Еще есть время. Если ты действительно сомневаешься…
– Я…
– …то уходи. Уходи сейчас же и навсегда. Не ты делаешь нам одолжение, приходя сюда, мы делаем тебе одолжение, принимая тебя. Никто не оказывает нам милость, лишь мы можем удостоить милости. Без нас мир станет скучным и унылым местом, для большинства людей он уже такой. Хотя они об этом не догадываются, но только благодаря нам они получают право называться людьми. Без нас они обезьяны, невесть что о себе воображающие. Нам никто не нужен. В том числе и ты.
Луч света снова вспыхнул, как будто его включили, и снова стал ощупывать стену. Я сглотнул; в горле у меня пересохло.
А ведь я мог бы о многом рассказать. О нескончаемых ночах, которые секунда за секундой ползут по направлению к блеклому рассвету и ни одна таблетка не дает желанного сна. Сколько таких ночей я пережил с тех пор, как внезапно осознал под дождем, что не хочу быть священником. Я все еще чувствовал, как вокруг меня бушует вода, как она размывает почву у меня под ногами и как внезапно все – земля, небо, трава, дождь и одинокое, исхлестанное дождем дерево – произносит одну и ту же фразу: «Ты им не станешь». – «Но почему?» – «Не спрашивай, просто прими это как есть. Ты им не станешь. Ты – не станешь». Когда дождь кончился, я, тяжело ступая, утопая в размякшей грязи, побрел обратно в монастырь. Старый монах, с лицом, на котором лишенная событий жизнь прорезала глубокие морщины, вышел мне навстречу и многозначительно кивнул, точно понял, что произошло.
А последующие дни! Я пытался уговорить себя, передумать, но тщетно. Размышлять было не о чем, ни к чему было оценивать сияющие «за» и грозные «против»; осталось только холодное, ясное осознание того, что я не хочу быть священником. При этом я был спокойнее, уравновешеннее, чем когда-либо. Иногда я замечал с беспомощным удивлением, что ничтожный болтун во мне уже давно молчит. За моим окном, над деревом, переливаясь в серебристо-серой паутине, всходило и заходило солнце. Я смотрел на него, слушал, как шелестит тишина, в которую иногда вторгалось гудение самолетов и машин, и ощущал, что мое существование созвучно всему этому, всему случившемуся, всему, что может произойти. Маленький водоворот в сливе раковины булькал и при этом вращался вместе с земной осью. В огороде созревали овощи, пахло осенью. Иногда было ясно, иногда шел дождь, а по временам в атмосфере рыскали сверкающие грозы. Что бы я ни делал, существовало что-то непреходящее и правильное. Нет, я не хотел быть священником. Я так решил, а сам даже не мог четко и ясно объяснить почему. К чему объяснять это теперь, когда прошли годы? Кто отдает себе отчет в собственных поступках? Кто понимает себя или кого-нибудь другого? Только идиоты осмелятся утверждать, что способны понять кого-нибудь. А больше никто, вероятно, даже Бог. Странная мысль: человек – высшее существо. А почему? Потому что он не такой, как звери с влажными носами и сияющие ангелы. Потому что его, и только его, не до конца понимает Бог. А иллюзионист? С этой точки зрения он, самый непонятный из людей, пожалуй, высшая ступень человека. Венец творения…