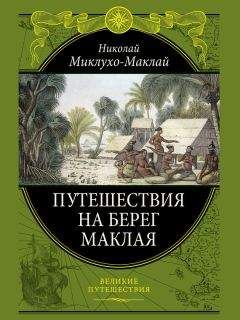О, дети, берегите и хольте свои яхточки! В них больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей!
— Братья, не просит ли кто-нибудь слова на пользу ложи и всего Братства каменщиков?
Неожиданно сам для себя просит слова брат Тэтэкин. Запинаясь языком за путаницу мыслей, он говорит:
— Невозможно терпеть, братья, такое положение, что, например, я читал, как молодой человек, я не помню фамилии, да это и не важно, братья, покончил с собой от безработицы и нужды. И ещё, братья, я сам знаю, например, профессора, умнейший человек, который может умереть с голоду. И таких очень много.
Дальше у него не выходит, и он замолкает.
— Дорогой брат, ваши чувства делают честь… Братьям известно… но что вы, собственно, конкретно предлагаете, дорогой брат Тэтэкин?
Егор Егорович оглядывается. Он видит лица, более удивлённые, чем сочувствующие. Зачем, собственно, он вылез? Сидел бы и молчал. Он долго ищет слова, но отвечает:
— Конкретно? Я не знаю, я только чувствую, что так нельзя. Я вот со своей стороны сейчас же готов, сколько могу…
И брат Тэтэкин, вытянув бумажник, извлекает из него записки, визитные карточки, деньги, потом сует все обратно — и не знает, как дальше поступить.
Сияющий лазурью и золотом агент страхового общества находит выход из положения:
— Братья, кружка вдовы обойдет колонны. Сегодня все, что будет собрано, мы отдадим в пользу безработных.
Пальцы тянутся к жилетным карманам. Егор Егорович в великом смущении комкает большую бумажку. Ему очень стыдно и не по себе. Бумажка не проходит в отверстие кружки вдовы, и собиратель милостыни приподымает крышку.
Сидящий неподалёку от Егора Егоровича комиссионер грамофонных пластинок шепчет на ухо почтённому аптекарю.
— Славный малый этот русский!
— Что вы говорите?
— Я говорю: он хоть и недалёкий, а малый славный. Э?
— Да, большой чудак!
И аптекарь, вторично сунув пальцы в карман жилета, вытаскивает и добавляет в кулак ещё два франка.
На задней скамье насупленные брови брата Жакмена. Он смотрит на затылок Егора Егоровича хмуро, задумчиво и не очень одобрительно. В его руке приготовлена обычная монета. В его голове старые, мудрые мысли. В его брови торчит прямой и круглый, как бревешко, седой волос — против ворса.
Километрах в пятидесяти от Парижа у Егора Егоровича был маленький участок земли, весьма благоразумно приобретённый в первые годы по приезде во Францию на вывезенные из России валютные бумажки. На участке был построен в кредит домик в четыре комнаты, и в течение ряда лет Егор Егорович с похвальной аккуратностью выплачивал — и выплатил его стоимость.
Домик был неблагоустроен и к зимней жизни неприспособлен, но летом семья Егора Егоровича переселялась сюда на месяц его отпуска, а иногда приезжали дня на три, когда праздничный День счастливым мостом соединялся с днем воскресным. Впрочем, Анна Пахомовна не проявляла большой склонности жить на даче, в местности безлесной, безречной и довольно малолюдной, где не было даже кинематографа.
В нынешнем году Егор Егорович взял отпуск рано — в мае месяце, и было решено, что он поедет в деревню один. Топить при надобности печурку и варить кофе — мудрость небольшая, а питаться, недорого и хорошо, можно было в приличном кабачке поблизости от хутора. Впрочем, при желании Егор Егорович справился бы с кулинарией и лично.
Он опасался, что проект такой его самостоятельной жизни встретит резкий отпор со стороны Анны Пахомовны. Оказалось, наоборот: Анна Пахомовна вполне одобрила его план одинокого весеннего отдыха, избавлявший и её от лишних семейных забот. У Анны Пахомовны, — кто бы мог думать! — завелся свой круг новых знакомств, и не только русских. С тех пор как Анна Пахомовна сделалась светлой блондинкой с яркими губами и короткими индефризаблями, — весь строй её жизни и её психологии переменился. Анна Пахомовна с тем же ужасным акцентом, но уже безо всякого стеснения, с лёгкостью и свободой пускала в оборот французские фразы. Стала легче её походка, мизинец правой руки оттопыривался с грацией, и на благотворительном балу волжского землячества Анна Пахомовна, на глазах остолбеневшего от ужаса Егора Егоровича, протанцевала фокстрот и ещё какой-то танец, отвалившись верхней частью сорокалетнего корпуса от привалившегося к нижней Анри Ришара, с некоторого времени ближайшего друга семейства Тетёхиных.
В первых числах мая Егор Егорович с чемоданом белья, пакетом семян от Вильморена, связкой бамбуковых палочек, новеньким лёгким топором, пилой-ножовкой, английскими кусачками, примусом и другими орудиями хозяйственного созидания отбыл в собственное имение. Книг с собой взял три: «Спутника садовода», Библию и одно из малопонятных творений высокоучёного Папюса — читать одинокими вечерами и в дождливый день.
На месте его ждала великая книга Природы, развёрнутая на первой странице, дальше которой ещё не пошло современное человечество.
Три первых дня на даче пролетели, как сон волшебный. С раннего утра до заката Егор Егорович ковырял, полол, сеял, ставил палочки, сжигал сухие ветки, листья и мусор, сооружал ящики, забивал гвоздики. В вечерней прохладе созерцал и слушал музыку мироздания, затем зажигал керосиновую лампу и несколько часов проводил в обществе Авраама, Моисея, Давида, Соломона, в обстановке довольно кошмарной, потому что даже в наше послевоенное время подобным людям пришлось бы несколько подтянуться и придать своим деяниям хотя бы внешне благопристойный вид.
Так, например, кротчайший царь и псалмопевец Давид перерезал и передушил на своём веку столько людей, что на долю его сына, Соломона, осталось пристукивать сравнительно немного. Сначала Соломон додушил, по отцову завещанию, Иоава, сына Саруи, и Семея, сына Геры, относительно которых Давид убедительно просил его — низвести их седины во крови в преисподнюю. Затем, уже по собственному почину и соображению, Соломон прирезал родного брата Адонию, женился на фараоновой дочери и ещё на семистах жёнах, добавив к ним триста наложниц и наконец занялся мирным строительством.
— «Нужно все-таки сказать, — подумал Егор Егорович, впервые так внимательно читавший Библию, — что всё это — достаточное безобразие! Хотя, конечно, — время было такое…»
Отправил царь Соломон царьку тирскому говорящую дощечку: «Пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпуровой, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и придумывать все, что будет ему поручено вместе с художниками. И пришли мне дерев кедровых, кипарисовых и сандальных с Ливана, потому что дом, который я строю, великий и чудесный».
И послал тирский царёк Соломону человека, именем Хирама, сына вдовы из колена Неффалимова.
* * *
Крыша домика Егора Егоровича крыта обыкновенными красными черепицами, которые накладываются одна на край другой и по которым отменно сбегает дождевая вода: остроумнейшее изобретение, автор нет известен.
Между крышей и звёздным небом — воздушная прослойка.
Кто не верит, что в мире все чудесно, пусть тот жует учёными губами прозаический вздор о составе и температуре воздуха и причинах столь разного блеска звёзд. Егор Егорович лежит в таки жестковатой постеле и думает о великом строителе Хираме.
Это был, очевидно, молодой человек заграничного образования, художник, поэт и величайший фантазёр своего времени. Проживая в Египте, он принял посвящение в тайное общество и, после ряда страшных и тяжких испытаний, достиг степени мастера. Но его не удовлетворяли пути самоуглубления и созерцания;, ему, хотелось скорее найти достойное применение своим дарованиям, его манило широкое строительство, он любил жизнь, мечтал о претворении в действительность тех чудес, которые открыла ему тайна посвящения.
Он был белокур, голубоглаз, строен, высок, силен, здоров, красив, честен, приветлив и одарён всеми талантами. Он родился среди кедров, кипарисов, высоких трав и светлых речных струй. Его единственной наставницей была Природа, — и лучшей наставницы не могло быть у смертного.
На утренней заре Хирам смотрел, как просыпается живущее днем и засыпает жившее ночью. Как выправляются напряжённые соками листья; как раскрывают глаза цветы, вздрагивая жёлтыми ресницами, как за любовью манящей и уклончивой гонится любовь настойчивая и настигающая. Тонким музыкальным ухом Хирам слушал гудение натянутой на колышки двух земных полюсов струны, которая пела-пела-пела, когда её задевали крылья птиц и насекомых. Когда солнце восходило к зениту, — все живущее склонялось долу и тяжко дышало, не зная, что земному светилу будет угодно испепелить, и что помиловать. Когда же само солнце увядало и на землю стекала прохлада, — по всем злакам, кустам и деревьям пробегала игривым змеёнышем улыбка радости и уверенности в завтрашнем дне. С вечерней зарёй просыпались цветы ночные, особенно ароматные; вылетали мотыльки, особо лакомые до редких медов и драгоценнейшей душистой пыли. Тогда же выныривали из логовищ звери с горящими глазами и пружинными мускулами.