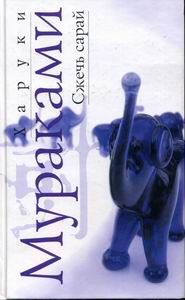Прячась от этой жути, я принялся читать по казенным стенам дидактические плакаты (зальчик Олег выпросил у
Электромеханического техникума): “Шпиндель 1 вводится в разъем 2 и поворотом рукоятки 3 приводится в рабочее состояние” – один в один стилистика передового пособия. Белая феминистка с готовностью покатилась со смеху всеми своими шестьюдесятью голливудскими зубами, черная же буквально побелела:
– Почему вы думаете, что женщины могут писать только глупости?!
– Совсем я так не… Просто применять к челове…
– Еще бы – вы, мужчины, уж такие утонченные!
– Я согласен, я грубое животное, но бывает, я млею от одного только голоса по испорченному телефону, а иногда меня тискают, и только зло берет. А женщины, наверно, еще более…
– Это вы хотите их такими видеть! Сохранить их как безропотное орудие для хозяйственных и сексуальных услуг!..
Понимая, что превращаюсь в посмешище, я – головой в прорубь – публично поклялся на новом евангелии экс махина, что без женщин я готов обойтись и в хозяйстве (у меня бы и хозяйства не было), и в сексе (что у меня, рук нету!), но вот без их душевного эха, без света, который от них исходит…
Наконец-то я почувствовал, что могу с легкой душой хлопнуть дверью и уйти. Однако даже в черной мстительнице шевельнулось что-то человеческое:
– В институте мальчики меня тоже уважали. А потом их распределили в престижные ящики, а меня в открытую контору на девяносто рублей – только потому, что я была женщиной!
– Конечно, это ужасное свинство, – закудахтал я, но створки уже захлопнулись. Зато остальной отрядик начал встречать меня улыбками, и пророчица беспрерывно, на грани хамства, прохаживалась насчет моей неотразимости – не такая уж, мол, она неотразимая.
Ее чрезвычайно высокое мнение о собственном остроумии было далеко не самым несносным – я не выдерживаю ненависти. Я возвращался из техникума сексуальности настолько раздавленным, что мама, быстро подсекши резкое усиление вертикали в моих чертах, настрого запретила мне там появляться. Да и женщины, она считала, не нуждаются в помощи: “Мы все перемелем. Было бы ради кого”. Бедная рабыня – иметь так много для любви и так мало для вражды!
Выжить можно, лишь свернувшись в комочек, стянувшись в спору под защитной оболочкой пиджачной заурядности, чтобы протуберанцем не свистнула безграничность – бежать вина, любви, музыки: после первого же стакана я начинаю боготворить любой женский силуэт, у которого достанет терпения просидеть четверть часа в одинокой отрешенности от житейской грязи, после первого же небесного аккорда вдруг обжигают слезы в совсем уж неприличном обилии – а за ними такое отча… Когда я решил ни за что не высовываться из манекена, стало незачем и пить: вино – только знак, после которого ты все себе разрешаешь. А я никогда ничего себе не разрешаю. Лишь изредка задохнусь от внезапной нежности к случайному прохожему: “Половина шестого!”
Не шевелиться, не колыхать – а то ведь я докатывался и до психиатров, выдавливал на язык таблетки, оканчивающиеся на
“пам”… А одна шемаханская царица в белом раскрыла плоский ящичек, в бархатных пазах которого покоились разнокалиберные никелированные молотки с подбитой нежной байкой ударной частью.
“Повернитесь к свету, закройте глаза”. Памммм!.. “Ну что, легче?
Принимайте три раза в день”. Ослабить боль, утратив власть над собою? Я предпочел сохранить власть вместе с болью.
Мужская дружба – единственное прочное светило на асфальтовом небосклоне нашего Ремарка! Но половина материчка друзей юности откололась, когда нам всем было по тридцать (так много!). Я часто ездил к ним в ученый Обнинск, мы – по-прежнему в общаге, только “семейной”, с санузлом – пили как звери, с Юркой
Сорокиным, зачем-то отпустившим котлетки бакенбард, скандировали
“По рыбам, по звездам…”, в четыре глотки (жены улыбчиво помалкивали, а Юркина красавица – даже загадочно) изливались, что все оказалось не то – и физика, и жизнь. Я тоже изливался, но еще не верил – просто притязания должны быть безмерными.
Потом до меня докатился посмеивающийся слух, что Ерофеич, самый бытовой из нас, живет с Юркиной красавицей. А еще чуть спустя я узнал, что Юрка повесился. После обычной пьянки поругался с женой, заперся в санузле и повесился. Клянусь, я никого не обвиняю – но больше никого оттуда видеть не могу.
Я ведь фон-барон, я едва удерживаюсь от стона, когда любящие люди перебивают друг друга, – что ж вы не надеваете друг дружке на физиономии тарелки с салатом? И мама ведь тоже… Как-то я решил дать ей урок: азартный ее рассказ прерывал посторонними вопросами, отвлекался и не переспрашивал, гремел тазами в ванной
– но моя изобретательность иссякла прежде, чем сколько-нибудь поколебалась ее готовность продолжать с прерванного места.
Да господи – все плотское требует потупить взор: мне неловко даже мысленно произнести свое имя; имя мамы я тоже выговариваю с трудом – так оно неточно и фальшиво. Маминому же халату, немым укором обвисшему над ванной, мне вообще невозможно посмотреть в глаза. А то еще бритвой полоснут потерянные крошки в седенькой бородке отца, – и в крошках этих правда, а в бородке – ложь: эта серебряная шерстка – эмблема аристократов духа, совсем было повернувших Россию к гуманности и демократии, и если бы не политические фанатики и разнуздавшиеся дикари…
Но ведь, берясь за руль, надо знать, что наш мир – это мир простых людей, то есть дикарей и фанатиков, и вообще Хаос не тетка… На Троицу вся Механка на грузовиках валила на Коровье озеро, и один сообразительный шоферишка решил проехать покороче,
– помню вопли, березовые ваги, “Раз, два – взяли!” – а он, держась за оскальпированную голову, сидел у перевернутой машины и повторял: “Во, бля, срезал, во, бля, срезал…” Ну хоть бы один возвышенный ум, просвещенный ум схватился за голову!..
В своей разящей беспомощности отец, как все благородные люди, был неуязвим для правды, а мать, чтобы я не расстраивался, опрокидывала мне на голову фарфоровый жбанчик (чужой, не из детства) малинового варенья.
– Никогда не надо анализировать людей, – как-то мимоходом обронила мама. – Анализа не выдержит никто.
– И… ты давно это знаешь?..
– Кто же этого не знает! Без жалости людей выносить невозможно.
Нет, нам, спорам, не по плечу ненавидеть грех и безмятежно любить грешника, да еще вблизи! Вы замечали, как бросаются друг к другу былые одноклассники? Я хлопал по бескостным и твердым, как детские лопатки, ладоням директора ресторана, инструктора райкома, алкоголика, убийцы, мы так и остались – Витька, Санька,
Блин, Длинный, Шкет, – зато бабы оказались ужасно настоящие – не хуже наших мам! Когда Верка Рюхина, – бойкая девчонка и разбитная бабенка – все-таки не одно и то же, – на каждого набрасывалась с вопросом: “Сколько получаешь?” – я лишь отечески улыбался. Внезапно она высветила меня: “А мы все думали, что из тебя черт-те что получится!..” Я даже не успел смутиться, как тихая Соня Сорокина очень спокойно и мелодично разъяснила: “Из него все, что нужно, получилось, когда он только на свет родился”. Изображая (слишком похоже) полупьяную откровенность,
Верка воззрилась на нее и вынесла неодобрительный вердикт: “Ты,
Сорокина, мне всегда на внешность нравилась!” Вдовья фамилия
Юркиной жены… Я напрягся и впервые взглянул на Соню повнимательнее.
Передо мной сидела красавица. На прежнем смутном отпечатке смуглело что-то миленькое, но чрезвычайно тихое, поникшее – дика, печальна, молчалива, – а мне в ту пору нравились… дальние странствия, великие открытия, ослепительные победы, грандиозные поражения – в этом чаду с меня было более чем довольно той Прекрасной Дамы, к ногам которой я слагал завоеванные сокровища, которая, завернувшись в синий плащ, следовала за мной в изгнание. С опережением перепорхнув в университет, я с опозданием прослышал, что Сорокина получила золотую медаль, – а я и не замечал, что она такая уж круглая отличница, это я блистал и знанием, и незнанием.
Умненькие девочки никогда не оставались ко мне равнодушными, но она впоследствии отрицала эту очевидность: “Я не люблю суперменов. Вечно всех восхищать, никем не восхищаться…”
Почему же тогда, сталкиваясь со мной, она не поднимала глаз с особой тщательностью? Зато в первый взрослый вечер глаза ее, чуточку, оказывается персидские, двигались с полной непринужденностью, но так упорно избегали моего взгляда, что я заподозрил в этом урок. Как прежде, изнывал “Маленький цветок”, и меня слегка покоробило, что некоторые, танцуя, обжимаются как неродные. Я пригласил Соню со всей возможной церемонностью – и не удержался (не очень-то и хотелось) от простодушного: “Какая ты тоненькая!..” Когда радиола смолкла, она школьническим и одновременно женственно-властным движением повела меня за руку к длиннейшим, припавшим к полу гимнастическим скамьям.