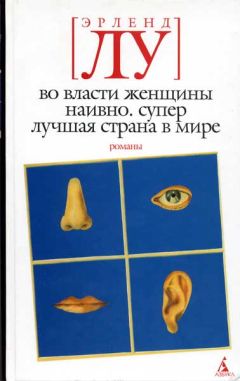Разумеется, все зависит еще и от того, что я подразумеваю под словом «хорошо».
Лиза спрашивает меня, что я имею в виду.
Я говорю, что сам не знаю. Я говорю, что, по-видимому, я хочу знать, устроится ли все мало-помалу.
Мне не так уж много и надо. Но я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу простой и доброй жизни, в которой будет много хороших часов и много радости.
Лиза считает, что это для меня вполне достижимо.
Я говорю, что как-то не могу ничему толком радоваться, пока чувствую, что бытие лишено смысла.
– Слушай, может быть, лучше поменьше думать о смысле? – предлагает Лиза.
– Нет, я так не могу.
– Ну а как тогда быть с дружбой? – спрашивает Лиза. – Для нас с тобой дружба, например, не имеет смысла.
– Верно, – соглашаюсь я.
– Ну вот видишь! – говорит Лиза.
Подъезжает мой автобус. Я фотографирую Лизу ее поляроидом.
Я спрашиваю, будет ли она меня ждать.
Она смеется и целует меня и говорит, чтобы я писал ей открытки.
Я спрашиваю, не надоест ли ей, если я буду присылать по открытке каждый день. Она говорит, что нет. Но просит, чтобы я писал открытки, когда буду в каком-нибудь замечательном месте. Лучше всего – на крышах небоскребов.
Я машу Лизе из окошка в конце автобуса.
И ровно в ту секунду, когда она исчезает из виду, ее лицо начинает проступать на снимке.
Так что я продолжаю ее видеть.
Из аэропорта я звоню родителям и сообщаю им, что лечу в путешествие. Услышав, что я собрался в Америку, мама говорит только: «Как интересно!»
– Счастливого пути! – желает она мне на прощание.
Для папы этого мало. Он говорит, что если я согласен подождать часок, то он напишет манифест, чтобы я распространил его затем на улицах Нью-Йорка.
В этом манифесте он хочет высказаться против всего того, что символизирует собой Америка: против ее глупости, против увлечения несбыточными мечтами, против ее внешней политики и культурного империализма. Он напишет всего одну страничку формата А4. Папа подозревает, что большинство американцев не имеет никакого понятия о том, как воспринимают Америку многие европейские интеллигенты.
Папа хочет написать манифест, который заставит их призадуматься. Пускай это будет им наука.
Я говорю, что мой самолет улетает через пятнадцать минут.
Так что придется отложить манифест до следующего раза.
И вот я сижу в самолете.
Я лечу в дальние края.
Мне показывают фильм настолько скверный, что мне неловко за всех участников, и я думаю о том служащем компании, которому поручено отбирать фильмы для показа.
Интересно, случайно ли он сделал неудачный выбор, или он просто глуп, и есть ли у него возлюбленная.
Слева от меня возле окна сидит немка, она все время подсовывает мне коробочки с соком, который ей самой не хочется пить.
Я выпил уже столько коробочек, что в следующий раз, если она предложит мне еще, я обязательно откажусь.
Я снова читаю книгу Поля.
После того как я написал ему письмо, она стала мне больше нравиться.
У меня такое чувство, как будто между нами установились близкие отношения. Как будто мы хорошо знаем друг друга.
Мы с Полем.
Можем быть, в эту самую минуту он занят тем, что пишет мне ответ.
Может быть, он говорит мне, чтобы я не беспокоился и все будет хорошо.
Он пишет, что Земля окружена безвоздушным пространством.
Она вращается вокруг своей оси. Она движется по орбите. С огромной скоростью. Наблюдая за Солнцем, мы можем рассчитать скорость вращения Земли. Кто-то когда-то постановил, что в полдень наступает двенадцать часов дня. Это относится к любой точке земли. Поэтому во многих местах часы показывают иное время, чем в Норвегии.
Земля разделена на двадцать четыре часовых пояса. И мы условились считать время в пределах каждой зоны одинаковым. Иначе, отъехав на десять миль к востоку, нам уже пришлось бы переводить часы на четыре минуты вперед.
Это значит, что часы в загородном домике моих родителей всегда шли бы на четыре минуты вперед по сравнению с часами на городской квартире.
Чтение этой главы открыло мне глаза на то, что время в Нью-Йорке отличается от норвежского времени.
В Нью-Йорке должно быть на шесть часов меньше.
В каком-то смысле при переезде в Нью-Йорк я выигрываю шесть часов. Эта мысль вызывает чувство удовлетворения. Постараюсь употребить эти часы на что-нибудь приятное.
С другой стороны, находясь на высоте десяти тысяч метров, я теряю приблизительно три миллиардных секунды в час. Перелет занимает восемь часов. Значит, я потеряю двадцать четыре миллиардных доли секунды. Сущий пустяк.
Я говорю себе, что такой малостью можно пренебречь.
Моя немецкая соседка предлагает мне коробочку сока.
Я вежливо отказываюсь и для убедительности слегка похлопываю себя по животу, показывая, что не испытываю ни голода, ни жажды.
Она ставит коробочку с соком на пол и надевает маску, которая закрывает глаза от света. Она собирается поспать.
Я встаю и направляюсь в уборную. В очереди передо мной стоит итальянец. Я еще раньше обратил на него внимание. Он летит с двумя товарищами. Все трое в костюмах и все время снуют взад и вперед.
Глядя на них, я чувствую, что тут что-то неладно. От этих людей не приходится ждать ничего хорошего.
Я не боюсь летать на самолетах, по крайней мере техническая сторона не вызывает у меня беспокойства. Но вот людей я побаиваюсь. Никогда не знаешь, что они могут выкинуть.
А в этих итальянцах определенно есть что-то подозрительное. У меня возникло опасение, что они задумали угон самолета. От улыбочек, которыми они обмениваются, мне как-то не по себе. Кажется, будто эти трое скрывают какую-то нехорошую тайну. Я знаю, что существует такая взрывчатка, которую нельзя обнаружить металлоискателем. Откуда мне знать – вдруг у них полные карманы этой взрывчатки! И наверняка они собираются предъявить какое-нибудь невыполнимое требование.
Я уже бесповоротно убежден, что если они в доказательство серьезности своих намерений захотят прикончить кого-то из пассажиров, то выберут в жертву именно меня.
Как же иначе!
Возьмут и вышвырнут меня из самолета прямо над Атлантическим океаном.
Мне хочется попросить стюардессу, чтобы она спела мне песенку, но не решаюсь и ограничиваюсь тем, что прошу ее принести мне порцию джина с тоником.
Дальше Поль пишет, что Земля представляет собой атипичный объект во Вселенной. Большинство других объектов находятся в полном вакууме или окружены газовой оболочкой. И температурные условия на них совершенно немыслимые. Немного найдется таких объектов, где мы могли бы выжить.
Еще он пишет, что и времена в большинстве случаев оказались бы неподходящими для нас. Тут следует очень сложная цепочка рассуждений, и я пытаюсь вникнуть в нее.
Приблизительно десять процентов из всех когда-либо населявших землю людей живут в наше время. Это известно.
Если предположить, что существование человечества продлится еще тысячи или миллионы лет, это будет означать, что мы представляем собой исключительное явление, поскольку живем в самом начале, а те, что будут жить после нас, будут более типичными его представителями, поскольку в их эпоху существование человека будет более обычным явлением, чем это было в наше время.
Однако у нас нет никаких оснований считать себя исключительным явлением. Но если мы представляем собой типичный случай, то после нас мало кому достанется жить и, следовательно, близок конец существования человека.
Поль предлагает мне проделать увлекательный мысленный эксперимент, над которым мне, однако, приходится изрядно попотеть. Он предлагает мне вообразить себе две урны с листочками, на которых написаны имена. В одной урне лежит десять листков, в другой – тысяча. На одном, и только одном листке написано мое имя. В которой из двух урн я полагаю наиболее вероятным найти листок с моим именем? Узнать это наверняка невозможно. Можно только гадать, но если основываться на вероятности, то у нас в пятьдесят раз больше шансов найти ее в урне, где лежит тысяча имен, чем в той, где их только десять, – так пишет Поль.
Но вот мы начинаем вынимать листки, и на третьем листке из первой урны, в которой было всего десять именных листков, обнаруживается мое имя.
То, что мое имя попалось в самом начале, гораздо вероятнее в том случае, если оно лежало в урне с десятью листками, чем если бы оно находилось в урне с тысячью листков.
Если перенести все это на людей, которым когда-либо предстоит жить на земле, то, по расчетам Поля, вероятность того, что общая численность должна быть ограниченной и что конец недалек, составляет шестьдесят-семьдесят процентов.