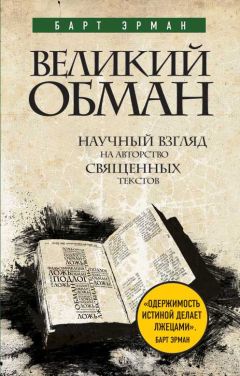Фриман
Как-то вечером в конце февраля Бенедикт позвал меня посидеть и выпить. Как-то это на него не походило, и у меня не хватило духу отказать. Он был в тоскливом настроении: поругался с Бесс из-за мальчика, да я и сам видел, что он зашел в тупик, не понимает, куда двигаться дальше. Он достал бутылку коньяка, оставшуюся в доме еще от отца, мол, не хочет переводить ее на Коула и Клиффорда, тем все равно, что глушить, вечно пьют одну самогонку. Я без всякой задней мысли, чисто автоматически спросил его, как он познакомился с матерью своего мальчика. И тут же устыдился, что лезу к нему с расспросами: я же использую его, втемную вытаскиваю сведения, но ведь и она меня торопила, требовала результатов. Ей уже недоставало сделанных украдкой фотографий парнишки, она хотела его вживую, чтобы был рядом. Надо было сдвинуться с мертвой точки, нельзя же тут торчать до скончания века. Бесс сидела где-то наверху, а он выпил гораздо больше моего, и, думаю, его немного развезло. Он рассказал мне про то, как приехал в Нью-Йорк и как он возненавидел этот город. Он же привык к прохладе Аляски, а тут от жары и городского чада у него просто горло перехватило. Добрый христианин сразу понял бы, что это преддверие ада. Я-то считал, что это адский город не из-за климата, а скорее из-за жителей, но спросил его еще, как он туда добрался. И тут до меня дошло, что вся история не склеивается. Не мог он в конце августа зачать ребенка, который родился доношенным в начале февраля следующего года. Значит, он ему не отец. Это решало проблему моего пребывания здесь. Неважно, что мне не сказали, кто настоящий отец ребенка, все детали и так сложились в моей голове. Имя мальчика, тот факт, что он так мало похож на Бенедикта… Не надо даже всю жизнь работать в полиции, чтобы догадаться. Дальше — не моя проблема. Если он ему всего лишь дядя, то признание отцовства недействительно. Я за несколько дней собрал у парнишки с шапочки немного волос, а что касается Бенедикта, то тут проще всего было взять один из его хабариков. Он заходил ко мне, чтобы не курить при парнишке. Я разложил это все в запечатанные пакеты и приготовил общий конверт для миссис Берджер. Думаю, этого вполне хватит, чтобы получить внука, и тогда я наконец-то смогу вернуться домой. Только вот куда возвращаться на самом деле? Она же убедила меня не объявлять ничего Марте, мол, той лучше считать меня мертвым, чем знать правду. Я злился на себя за то, что так беспрекословно ей подчинился. Откуда ей знать, как именно — лучше? И как можно бросить собственную жену только из стыда сказать ей правду? Чем я тогда лучше тех парней, которых пересажал за годы службы? Ничем. Оставил Марту одну, а сам прижился тут и даже завел знакомства — людей и животных. Корнелия, собака, подаренная мне Бенедиктом, скачет вокруг меня каждое утро, когда я встаю, словно я лучший хозяин, о каком только можно мечтать. Она любит меня безоговорочно, и не важно, кто я и что могу натворить. Может, что-то непоправимое. Вот сейчас сижу я в кресле человека, в его собственном доме, и собираюсь его предать. Он впустил меня в свой дом, он помогал мне и многое давал, и я отниму у него самое дорогое. А все из-за чего? Оттого, что продал душу незнакомой женщине.
Бенедикт
Я вышел из дома, посмотрел на мир вокруг, на выглянувшее наконец солнце, на робко вылезающих из укрытий животных, на озеро с его серебристой гладью, едва подернутой рябью от ветра. Все снова было как прежде, только вот ничто и никогда не станет прежним. Прекрасный мир вокруг застыл в оцепенении. Природа, словно спящая красавица, замерла в ожидании того, что должно случиться. Я должен был сделать свое дело, я должен был разбудить ее, потому что так положено, как сказал бы мой отец. Только я не знал, что делать сначала: вернуться к Коулу и расквитаться с ним за брата или дальше искать малыша. Некому было подсказать решение. Кроме меня, никого не осталось. У основания лестницы на снегу виднелись следы, и тут сердце екнуло: я понял, что шли двое. Там были следы мужской обуви, а впереди — другие следы, поменьше. Бесс или мальчика, трудно сказать. Я взял со снегохода лопату, проклиная себя за то, что не захватил ружье: неизвестно, что меня ждет и кто убил Клиффорда. Я продвигался так быстро, как позволял снег. Что-то внутри выгорало и превращалось в пепел. Я прошел последнюю рощу, где лесистая местность заканчивается и земля выравнивается, прежде чем плавно сойти к первой расселине, самой глубокой в нашем краю. Сверху она неширокая, едва протиснется человеческое туловище, но папа сказал, что вглубь она уходит на сорок пять футов, не меньше. Он предупредил Томаса, что жить поблизости — плохая идея, особенно если однажды у него появятся дети. Откуда ему было знать. Он тоже ни о чем не догадался. Если бы узнал, удавил бы Коула голыми руками. И тут я их увидел, но не сразу понял, что происходит на самом деле. Она была без шапки, волосы так ярко выделялись на фоне белого снега и синего неба, что все казалось какой-то абстрактной картиной, как в альбоме у Фэй. Мне так хотелось погладить Бесс по голове, дотронуться до ее кудрявых волос, зарыться в них лицом и сказать ей все, чего я никогда не говорил. Она шла впереди, Коул — за ней. По согнутой правой руке я понял, что́ он держит. Не раздумывая, я стал их нагонять так быстро, как мог, снег приглушал шаги. Коул все равно услышал, не зря он был охотником. Он обернулся, наставив на меня дуло; я подошел почти вплотную. Он опустил винтовку, улыбнулся мне и, кивнув на Бесс, сказал: «Не мешай, потом спасибо скажешь». При виде этой улыбки меня охватило бешенство. Я ударил его наотмашь лопатой, челюсть хрустнула так отчетливо, словно обломилась сухая ветка. Он выпустил ружье, рухнул на колени, раздался выстрел. Он цеплялся за полу моей куртки и смотрел на меня обиженно и озадаченно, как будто хотел что-то сказать или объяснить, что происходит. Его челюсть странно свисала влево. Я столкнул его руку со своей куртки, я не хотел, чтобы его кровь была на мне. Я отступил на два шага назад и сказал: «Это тебе за брата» — и нанес ему второй удар, изо всей силы, на этот раз лезвием лопаты, надеясь, что он сдохнет на месте. Челюстная кость вылезла из рассеченной щеки, повисла грязной скобкой. Бесс стояла напротив, дрожа в своем свитере. Мы стояли там, куда меня водил Томас в детстве, и она как будто заняла его место, дополнила пару, стала моим недостающим отражением. Мне только хотелось, чтобы она больше никогда не исчезла. Я сказал ей, что прочел дневник Томаса, что знаю почти все. Она не ответила. Но и по тому, как она молчала, я понял, что она догадалась обо всем задолго до меня. Бесс облизнула посиневшие, потрескавшиеся губы и спросила — но я никогда не слышал у нее такого голоса, — спросила только одно: «А Томас?» Я отрицательно покачал головой, и она заплакала — отчаянно, навзрыд. Я посмотрел на Коула, лежащего у моих ног, у него на лице было странное выражение, словно он не слишком удивлялся тому, что с ним произошло. Наверно, такие люди, как он, готовы к насильственной смерти, это логическое продолжение их жизни. После отца он был самым важным для меня человеком, именно он научил меня почти всему, но, многое дав одному из братьев, он стократно больше отнял у другого, день за днем растлевая его и губя. Он еще не умер, я слышал, как он стонет, захлебывается кровью, стекающей в горло, откуда-то из глубины его нутра шел хрип. Я схватил его за ворот куртки и потащил к краю расщелины, поражаясь, насколько нетяжелым оказалось тело. Я положил его прямо, ровно и пинком ноги столкнул в пустоту, как мешок. Он сначала застрял, как бы завис на краях расщелины, а потом все же провалился и рухнул на дно с глухим, далеким звуком падения. Может, когда-нибудь его обнаружат там — раздробленного на куски, с перекошенной челюстью, но сейчас я отомстил за брата. Теперь можно немного подумать о том, что делать со своей жизнью или с тем, что от нее осталось. Я взял Бесс за руку и сказал, что пора домой, ведь ничего больше сделать нельзя.