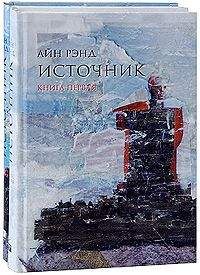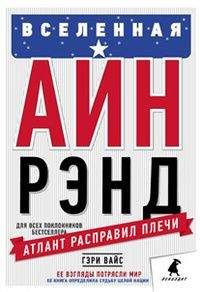Она была очень весела во время обеда, который давала жена какого-то банкира из числа влиятельных друзей Гейла, имён которых она уже не помнила. Это был великолепный обед в огромном особняке на Лонг-Айленде. Они были так рады видеть её и так огорчены, что не смог прийти Гейл. Она ела всё, что перед ней стояло. У неё был великолепный аппетит… как в редкие моменты в детстве, когда она прибегала домой после целого дня, проведённого в лесу, и её мать была так довольна, потому что боялась, что она вырастет малокровной.
Она развлекала присутствовавших историями из своего детства, она заставила всех смеяться — это был самый весёлый обед на памяти собравшихся. В гостиной, окна которой были широко распахнуты навстречу тёмному небу — безлунному пространству, протянувшемуся за деревьями в сторону отмелей Ист-Ривер, — она смеялась и неумолчно говорила, она улыбалась окружавшим её людям с такой теплотой, что они тоже начинали свободно говорить о дорогих для них вещах; она любила этих людей, и те понимали, что их любят, она любила всех людей на земле, и какая-то женщина сказала ей:
— Доминик, я и не думала, что ты можешь быть так великолепна.
И она ответила:
— У меня всё прекрасно.
Но в действительности она ничего не замечала, кроме часов у себя на запястье, и знала, что ей надо выйти отсюда в десять пятьдесят. Ей не приходило в голову, чем объяснить свой уход, но в десять сорок пять это было сказано, чётко и убедительно, и в десять пятьдесят её нога уже была на педали акселератора.
Это был закрытый спортивный автомобиль с чёрно-красной обивкой. Она подумала, как прекрасно Джон, шофёр, сумел сохранить блеск красной кожи. Скорее всего, от автомобиля ничего не останется, и важно, чтобы он выглядел подобающим образом для своей последней поездки. Как девушка в свою первую ночь. «Я не одевалась для своей первой ночи, у меня и не было первой ночи — с меня только что-то сорвали, а во рту остался привкус карьерной пыли».
Увидев чёрные вертикальные полосы с точками света, заполнившие ветровое стекло, она удивилась — что случилось со стеклом? Потом поняла, что едет вдоль Ист-Ривер и что это Нью-Йорк. Она рассмеялась и подумала: «Нет, это не Нью-Йорк, это картина, нарисованная на окне моей машины, всё находится здесь, на маленькой стеклянной панели под моей рукой. Я владею этим, — она пробежала рукой по стеклу от Бэттери{75} до моста Куинсборо{76} — это моё, и я всё отдаю тебе».
Фигура ночного сторожа уже уменьшилась до пятнадцати дюймов. «Когда она уменьшится до десяти дюймов, я начинаю», — подумала Доминик. Она стояла возле машины, и ей хотелось, чтобы сторож шёл быстрее.
Строение чёрной массой впивалось в небо. Над плоским пустырём небо нависало необычно низко. Ближайшие дома были удалены на расстояние многих лет — неровные маленькие зубцы далеко у горизонта похожие на зубья ломаной пилы.
Она ощутила крупную гальку под подошвами; это было неприятно, но она не могла двинуть ногой, боясь шуметь. Она была не одна. Она знала, что он где-то в здании, их разделяла только дорога. Из здания не доносилось ни звука, не было видно ни огонька, только белые кресты на чёрных окнах. Ему не нужен был свет: он знал каждую комнату, каждый лестничный пролёт.
Фигура сторожа ещё уменьшилась. Доминик распахнула дверцу машины, швырнула внутрь шляпу и сумочку и захлопнула дверцу. Она услышала нарастающий гул, когда, уже перебравшись через дорогу, бежала по пустырю прочь от здания.
Она чувствовала, как шёлковое платье льнёт к ногам, и это служило ощутимым признаком бега, надо было пробиться через это, чтобы как можно быстрее разорвать сковывавшие её барьеры. Она бежала по каким-то колдобинам, поросшим грубой щетиной. Один раз она упала, но поняла это, лишь когда была уже вновь на ногах.
В темноте она различила траншею и упала на колени, а потом легла на живот, лицом вниз, уткнувшись в землю.
Она почувствовала удар и конвульсию: её ноги, руки, грудь льнули к земле, она как будто лежала в постели Рорка.
Звук взрыва показался ей ударом кулака по затылку. Она почувствовала, как земля навалилась на неё, подбросила и поставила на ноги у края траншеи. Верхняя часть здания соскользнула с места и повисла, пока разорванная полоса неба постепенно не заполнила её, будто разрезав пополам. Затем эта полоса окрасилась в сине-зелёный цвет. И вот уже верхней части не стало, видны были только оконные рамы и балки, летящие в воздухе; здание расползалось по небу, длинный, тонкий, красный язык выстрелил из его центра: ещё удар кулаком, и ещё один, ослепительная вспышка, и стёкла небоскрёба сверкающим ливнем забарабанили по реке.
Она не помнила, что он приказал ей лежать, не двигаясь, не ощущала, что стоит, а вокруг наддаёт дождь из стёкол и искорёженного железа. Во вспышках взрывов, когда стены начали разваливаться и здание раскрылось, как солнце, появляющееся из-за облачной завесы, она подумала о нём — о строителе, который вынужден разрушать, о человеке, который знал каждую уязвимую точку этой структуры, который высчитал напряжения конструкций; она подумала о том, кто выбирал эти ключевые точки, закладывал туда взрывчатку, о враче, обернувшемся убийцей, умело и быстро расправившимся с сердцем, лёгкими и мозгом. Он был там, он всё понимал, и это понимание причиняло ему большую боль, чем та, которую он причинял зданию. Но он был там и приветствовал это.
На мгновение она увидела город, залитый светом, разглядела оконные проёмы и карнизы за мили отсюда, подумала о тёмных комнатах и потолках, которые лизал огонь, об остриях башен, осветившихся на фоне неба, — о её и его городе.
— Рорк! — закричала она. — Рорк! Рорк! — Она не понимала, что кричит. В грохоте взрыва она не слышала своего голоса.
Потом она побежала наискосок через пустырь, к дымящимся руинам, несясь по битому стеклу, каждым шагом тяжело упираясь в землю и радуясь боли. И боли уже не оставалось. Над пустырём стояла туча пыли. Откуда-то издалека слышался вой сирен.
Машину ещё можно было узнать, хотя задние колёса расплющились под тяжестью обломка отопительной системы, а на капоте лежала дверца лифта. Она заползла на сиденье, ведь она должна была выглядеть так, будто не уходила отсюда. Она хватала осколки стекла с пола и посыпала им колени, волосы. Она подняла острый осколок и резанула им шею, ноги, руки. То, что она чувствовала, нельзя было назвать болью. Она видела, как из руки брызнула кровь, струйки её стекали ей на колени, пропитывая чёрное шёлковое платье, сбегая между ног. Голова её откинулась назад, рот открылся. Она тяжело дышала. Но не хотела остановиться. Она была свободна. Она была неуязвима. Она не знала, что перерезала себе артерию. Она чувствовала себя такой лёгкой. Она смеялась над законом всемирного тяготения.
Когда её нашли полицейские из первой машины, прибывшей на место происшествия, она была без сознания, жизни в её теле оставалось на несколько минут.
Доминик разглядывала свою спальню. Это была её первая встреча с окружающим миром, к которой она была готова. Ей было известно, что её привезли сюда после многих дней, проведённых в больнице. Спальня, казалось, сверкала от света. Всё видится ясным, как стекло, подумалось ей, это осталось, это навсегда. Она увидела, что Винанд стоит возле её постели. Он наблюдал за ней, как будто его что-то забавляло.
Она вспомнила, каким видела его в больнице. Тогда его ничто не забавляло. Она знала, что доктор сказал ему в ту первую ночь, что она не выживет. Ей же хотелось сказать всем, что она выживет, что у неё нет выбора — она будет жить; только говорить об этом людям казалось уже неважным, как и вообще что-либо говорить.
И вот она вернулась. Она ещё ощущала бинты на своей шее, на ногах, на левой руке, но её руки лежали перед ней на простыне, бинты были сняты; остались только бледно-розовые шрамы.
— Ну ты и дурочка! — весело заявил Винанд. — Зачем было так стараться?
Лёжа на белой подушке, с мягкими золотистыми волосами, в белой больничной рубашке с застёгнутым воротом, она выглядела как никогда молодой. Она излучала спокойную радость, которую искала и не могла найти в юности: сознание полной определённости, невинности и покоя.
— У меня кончился бензин, — сказала она, — и я ждала в своей машине, как вдруг…
— Я уже рассказал эту историю полиции. И ночной сторож тоже. Но разве ты не знаешь, что со стеклом надо обращаться осторожно?
«Гейл выглядит отдохнувшим, — подумала она, — и очень уверенным». Это меняло всё и для него, и в такой же мере.
— Было не больно, — объяснила она.
— В следующий раз, когда захочешь играть роль случайного прохожего, позволь мне тебя потренировать.
— Но они же поверили, правда?
— О да, они всему поверили. Они были вынуждены. Ты чуть не умерла. Не понимаю, зачем ему понадобилось спасать жизнь сторожу и чуть не угробить тебя.