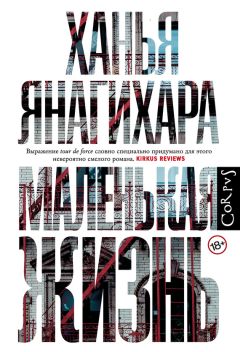Так что я пытался, конечно. Все время пытался. Но с каждым месяцем я чувствовал, что его все меньше. Дело было не в физическом исчезновении: к ноябрю он набрал свой вес — по крайней мере, дошел до нижней границы приемлемого — и выглядел, пожалуй, лучше, чем когда бы то ни было. Но он был тих, гораздо тише обычного, а ведь он и так всегда был тихий. Но теперь он очень мало говорил, и когда мы встречались, я иногда видел, что он смотрит на что-то невидимое для меня, и потом он чуть-чуть наклонял голову, как лошадь, когда прядает ушами, и возвращался в себя.
Однажды, во время нашего традиционного ужина по четвергам, я увидел синяки на его лице и шее, только с одной стороны, как будто он ранним солнечным вечером стоял у стены дома и на него упала тень. Синяки были ржавого темно-коричневого цвета, как запекшаяся кровь, и я ахнул.
— Что случилось? — спросил я.
— Упал, — сказал он. — Не волнуйся.
Но я, конечно, волновался. А когда я в следующий раз увидел его с синяками, я попытался взять его за плечи и потребовал:
— Расскажи мне, что происходит.
Но он вывернулся из моих рук и ответил:
— Нечего рассказывать.
Я так и не знаю, что случилось. Он что-то с собой делал? Позволил кому-то еще что-то с ним делать? Я не знал, что хуже. Я не знал, что делать.
Он скучал по тебе. Я тоже по тебе скучал. Да и все мы. Я думаю, ты должен понимать, что я скучал по тебе не просто потому, что с тобой ему было легче: я скучал по тебе, именно по тебе. Я скучал по тому, с каким удовольствием ты делал то, что тебе нравилось: ел, бежал за теннисным мячом, прыгал в бассейн. Я скучал по разговорам с тобой, по тому, как ты ходишь по комнате, скучал по тому, как ты падал на лужайку, облепленный ватагой Лоренсовых внуков, и делал вид, что под их весом не можешь подняться с земли. (В тот же день младшая внучка Лоренса, которая была от тебя без ума, сплела тебе браслет из одуванчиков, а ты поблагодарил ее и носил его весь день, и каждый раз, видя его на твоем запястье, она убегала и утыкалась лицом в спину своего отца; по этому я тоже скучал.) Но больше всего я скучал по вам вдвоем; скучал по тому, как ты приглядывал за ним, а он за тобой; скучал по тому, как бережно вы обходились друг с другом, по тому, как искренне и без усилия ты был с ним нежен; скучал по тому, как вы слушаете друг друга, оба с таким неотступным вниманием. Та вот картина, которую Джей-Би нарисовал — «Виллем слушает, как Джуд рассказывает историю», — она такая настоящая, выражение схвачено так верно: я знал, что на ней происходит, еще до того, как прочел название.
И я не хочу, чтобы ты думал, что после твоего ухода не было и счастливых мгновений, счастливых дней. Их, конечно, стало меньше. Их было труднее отыскать, труднее устроить. Но они существовали. Вернувшись из Италии, я начал вести семинар в Колумбийском университете, куда могли ходить как студенты-юристы, так и аспиранты других факультетов. Курс назывался «Философия закона, законы философии», я вел его вместе с одним старым приятелем, и на этом семинаре мы обсуждали справедливость закона, нравственные основания юридической системы и то, как они иногда вступают в противоречие с характерным для нашей нации представлением о морали, — все-таки спустя столько лет мы дошли до «Дреймэн 241»! По вечерам я виделся с друзьями. Джулия ходила на курсы рисования с натуры. Мы работали волонтерами в некоммерческой организации, которая помогала специалистам (врачам, юристам, учителям) из других стран (Судана, Афганистана, Непала) найти новую работу в своей области, даже если эта работа только отдаленно напоминала их прежние занятия: медсестры становились санитарками; судьи становились референтами. Кое-кому из них я помог подать документы в юридическую школу, и когда я с ними сталкивался, мы беседовали о том, что они изучают и чем отличается наше право от права, с которым они раньше имели дело.
— Я думаю, нам надо придумать совместный проект, — сказал я ему той осенью (он все еще работал бесплатно в арт-фонде, который в реальности оказался трогательнее, чем я представлял, когда я сам пошел туда волонтером: я думал, что обнаружу там просто толпу бездарей, пытающихся чего-то добиться в искусстве и смежных областях, притом что никаких шансов на успех у них нет, и хотя все именно так и оказалось, я обнаружил, что восхищаюсь ими, как и он, — их настойчивостью, их туповатой, непоколебимой верой. Это были люди, которых никто и ничто не могло отговорить от выбранной ими жизни, от уверенности в своем выборе).
— Например? — спросил он.
— Ты можешь научить меня готовить, — сказал я, и он посмотрел на меня этим своим взглядом, почти улыбаясь, но не совсем, словно был позабавлен, но не готов в этом признаться. — Я серьезно. Прямо по-настоящему готовить. Шесть-семь блюд, которые у меня были бы в репертуаре.
И он взялся за это. По вечерам в субботу, после всех дел или визита к Люсьену и Ирвинам, мы ехали в Гаррисон, и иногда нас сопровождали Ричард и Индия, или Джей-Би, или один из Генри Янгов с женой, а по воскресеньям мы что-нибудь готовили. Оказалось, что моя основная проблема — это недостаток терпения, неготовность смириться со скукой. Я отходил от плиты в поисках чего бы почитать и забывал, что оставляю ризотто, которое превращается в клейкую кашицу, или забывал, что надо перевернуть ломтики моркови в лужице оливкового масла, и, вернувшись, обнаруживал, что они пригорели к дну сковородки. (Готовка в какой-то неимоверной степени состоит, как оказалось, из поглаживания, обмывания, слежения, переворачивания, полоскания, смягчения — требований, которые я привык связывать с уходом за младенцем.) Другая моя проблема, сообщили мне, заключалась в стремлении к новизне, а это, судя по всему, гарантировало полный провал любого пекарского начинания.
— Это химия, Гарольд, а не философия, — повторял он все с той же полуулыбкой. — Ты не можешь нарушить заданные пропорции и надеяться, что все получится как положено.
— Ну а вдруг получится лучше, — сказал я, главным образом чтобы его повеселить — мне никогда не было трудно разыграть дурачка, если это могло доставить ему удовольствие, — и тут он улыбнулся, улыбнулся по-настоящему.
— Не получится, — сказал он.
В общем, в конце концов я таки научился кое-что готовить: курицу на гриле, яйцо-пашот, жареного палтуса. Я научился печь морковный пирог и хлеб с разными орешками, какой часто покупал в той кеймбриджской кондитерской, где он когда-то работал: по его рецепту получалось нечто невероятное, и я несколько недель пек буханку за буханкой.
— Отлично, Гарольд, — сказал он как-то раз, попробовав ломтик. — Видишь, теперь ты сможешь готовить себе еду, когда тебе будет сто лет.
— Это что еще значит — готовить себе еду? — спросил я его. — Тебе придется меня кормить. — И он улыбнулся мне печальной, странной улыбкой и ничего не сказал, а я поскорее сменил тему, чтобы он не успел ответить, а мне не пришлось притворяться, будто я не услышал. Я всегда старался сослаться на будущее, строить планы на годы вперед, чтобы он согласился на них, а я бы получил право требовать исполнения обещаний. Но он был осторожен и никогда ничего не обещал.
— Нам надо вместе пойти позаниматься музыкой, — сказал я ему, смутно представляя, что имею в виду.
Он чуть-чуть улыбнулся.
— Наверное, — сказал он. — Конечно. Обсудим. — Но ничего более решительного не говорил.
После уроков кулинарии мы шли гулять. Если мы были в загородном доме, то шли по тропинке, которую проложил Малкольм: мимо того места в лесу, где мне когда-то пришлось оставить его под деревом в судорогах боли, мимо первой скамьи, мимо второй и третьей. У второй скамьи мы всегда останавливались, садились и отдыхали. Ему не нужен был привал, не так, как это бывало раньше, и шли мы так медленно, что я тоже мог обойтись без отдыха. Но мы всегда церемониально задерживались на этом месте, потому что именно отсюда дом был лучше всего виден, помнишь? Малкольм там срубил несколько деревьев, так что, когда сидишь на скамье, открывается отличный вид на дом, а если выйти на заднее крыльцо дома — сразу видишь скамью. «Какой красивый дом», — говорил я всегда и всегда надеялся, что он понимает, что именно я в это вкладываю: что я горжусь им, горжусь домом, который он построил, и жизнью, которую он построил в этом доме.
Однажды, примерно через месяц после того, как мы все вернулись из Италии, мы сидели на той скамье, и он сказал:
— Как ты думаешь, он был со мной счастлив?
Сказал так тихо, что я думал, мне показалось, но потом он на меня взглянул, и я понял, что нет, не показалось.
— Конечно, — сказал я ему. — Я знаю, что он был счастлив.
Он помотал головой.
— Я столького не делал, — сказал он наконец.
Не знаю, что он имел в виду, но на мое мнение это не повлияло.
— Что бы это ни было, не важно, — сказал я, — я знаю, что он был счастлив с тобой. Он мне говорил. — Тут он посмотрел на меня. — Я знаю, — повторил я. — Я знаю.