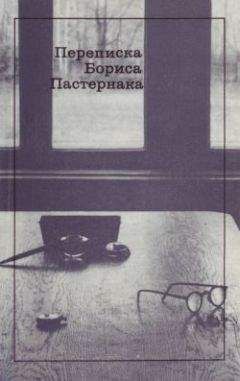— А чего трясетесь тогда? А?
— Со страху — отвечали лошади и пили ледяную воду из придорожной канавы, по краям которой торчали острые куски грязного, облепленного бурой прошлогодней травой льда, чавкали, как свиньи, толкались, с опаской косились друг на друга, как это обычно делают сердитые, никогда не доверяющие друг другу старики в очереди за хлебом, маргарином, кефиром, картошкой, луком, как безумные схимники, содержащиеся в психиатрической лечебнице доктора Бари или в доме инвалидов.
— Это что, вы меня испугались?
— Да, тебя
— Не бойтесь, не бойтесь, я вас не съем. — Начальник почтовой станции усмехался.
— Благослови тебя Господь, — звучало в ответ.
Лошади мычали. Как коровы.
Вкушали какую-то парную горячую дрянь. Угощались.
— Не изволите ли угоститься горячим чаем, уважаемый Александр Александрович?
Путешественник очнулся, словно вздрогнул от прикосновения, и отвернулся от окна. На столе, прямо перед ним, стоял небольшой походного образца самовар и заварной чайник с металлическим носиком и прикованной к нему на цепи крышкой.
— Благодарюкак-то, вы знаете, что-то нашло, накатило.
— Это бывает, бывает, — приторно осклабился начальник почтовой станции.
— Такое необъяснимое ощущение, что все это уже было со мной, что мне уже приходилось бывать в этих местах и наблюдать из окна этот двор и эту лежащую на крыльце собаку.
— Дело в том, что собака уже год как сдохла от старости, а это вы изволите наблюдать ее чучело, сделанное одним заезжим скорняком по фамилии Мазурин. — Начальник почтовой станции необычайно тщательно протер висевшим на плече полотенцем кружку, наполнил ее из самовара кипятком и поставил перед путешественником: — Угощайтесь.
— Надо же, а я думал, что собака живая.
— Да-да, так многим кажется, потому что внутри чучела находится заводной механизм, который и приводит в действие бока собаки, ее уши и пасть.
— То есть вы заводите ее как часы?
— Точно так. Это и есть своего рода часы, только идут они с некоторой задержкой во времени.
— То есть как это?
— Да очень просто: вот настенные часы пробили десять утра, а теперь еще раз пробили десять утра. Потом часы пробьют одиннадцать, полдень, час дня, потом все это повторится еще раз. Вы меня понимаете?
— Нет. — Путешественник поднес кружку с кипятком к лицу.
— Ну и ладно. Может быть, что-нибудь к чаю?
— Нет, благодарю вас.
— Тогда не смею более докучать вам своим обществом. — Пятясь назад, начальник почтовой станции медленно удалился куда-то в глубину залы, где скорее всего находилась потайная дверь.
Путешественник остался один. Всякий раз, когда он видел перед собой на столе чайные принадлежности, то сразу же вспоминал, как к ним на Миллионную приходил отец и любил подолгу засиживаться за самоваром — кажется, пока не выпивал его целиком.
С удовольствием водил губами по краям кобальтового цвета чашки, обжигался, кряхтел, пристально всматривался в собственное отражение в нефтяных разводах заварки, подмигивал сам себе, вероятно, находя в этом особый ритуал — ну хотя бы и ритуал общения со своим вторым «я». Раздвоение личности? Шизофрения?
Путешественник вновь взглянул в окно, но чучела собаки, что лежало на крыльце, уже не было.
Ушла?
«Как странно, как странно», — подумал путешественник и наклонился к самой чашке, на дне которой дрожал сводчатый, обклеенный бумагой потолок с висящей под ним керосиновой лампой. Тут же появилось лицо и заслонило эту керосиновую лампу.
Стало темно. В чашке с чаем стало темно. Полное затмение.
Путешественник предположил:
— А может быть, это был вовсе и не отец тогда, когда мы встречались с ним в последний раз. В этом надо разобраться. Может быть, это было точно такое же, как собака, механическое чучело, наученное говорить. Или, вернее сказать, кукла, идол, которая, как сказано в Писании, не может ни видеть, ни думать, но научена говорить, то есть может изрекать вложенные началозлобным демоном ей в уста слова.
— Изволили задремать?
Путешественник вздрогнул и открыл глаза. Начальник почтовой станции наклонился к самому лицу его и, выдохнув изо рта терпкий запах дешевого табака и закисшего хлебного мякиша, которым были заткнуты дырки в зубах, доверительно сообщил:
— Ваши лошади готовы. Пожелаете трогаться?
6. Посещение
Впервые в Москву Саша приехал уже после окончания университета. Здесь он остановился недалеко от Николаевского вокзала, на Басманной улице, в квартире дальней родственницы по материнской линии — Надежды Витальевны Серебряковой — высокой, крепкого сложения старухи с бородатым подбородком и усами, которые она каждое утро подстригала ножницами перед зеркалом. Зеркало висело в коридоре рядом с окном, и вполне могло показаться, что в коридоре есть два окна, одно из которых просто заиндевело.
Саше отвели небольшую комнату в самой глубине этой бездонной, наподобие водосточного колодца, бесконечной, как заброшенная каменоломня-лабиринт, вечно темной квартиры.
Соседнюю комнату занимал сын старухи — Антонин Львович Серебряков. Он страдал каким-то весьма редким заболеванием ног и поэтому почти никогда не выходил из своей комнаты. Скорее всего от постоянного, длящегося не одно десятилетие, вынужденного заточения Серебряков был не лишен некоторых странностей. Так, он иногда кричал по ночам и умолял свою мать не водить его гулять на Чистопрудный бульвар, потому что смертельно боялся, что она, воспользовавшись его беспомощностью, утопит его здесь в пруду, в этой вонючей, заросшей тиной луже. Просто толкнет в воду — и отвернется. И заткнет уши. И закроет глаза.
Антонин Львович так рассуждал про себя: «Вскоре мои глаза совершенно привыкнут к темноте, и я даже найду весьма и весьма приятным лежать в мглистой голубоватой дымке, в непроточном, абсолютно неподвижном водоеме, на илистое, взвихряющееся взвесью дно которого будет проникать слабый свет уличных фонарей. И я буду не в живых».
Утопит, утопит. Но почему она это сделает наверняка? Да потому, что уже говорила ему, что давно свихнулась от такой жизни, и он страшился ее, этой безумной старухи.
Что будет потом? А потом его достанут со дна пруда совершенно не поврежденного ни тлением, ни рыбами.
Повреждение в рассудке
Повредился в рассудке
Наконец на истошные крики сына приходила Надежда Витальевна, долго просила его успокоиться, обещала не водить его гулять на Чистые пруды и, естественно, не топить там, особенно сейчас, когда на улице зима и на Чистых прудах залит каток. Умоляла принять успокоительное лекарство. И Антонин Львович наконец принимал это лекарство — до ломоты в ноздрях кислую настойку — и тут же засыпал.
Впоследствии он рассказывал Саше, как во сне не раз дрался с матерью, дрался отчаянно, смертным боем, но всякий раз бывал жестоко, до полусмерти, избит и потому просыпался посреди ночи весь в поту и слезах, довольно часто обнаруживая себя при этом лежащим на полу рядом с кроватью и обмочившимся.
Вот так они и жили всю жизнь вместе — старая мать и ее старый сын-паралитик — в этой старой квартире с окнами, выходящими на церковь Петра и Павла, что на Басманной.
…на крыше церкви лежал снег, а по чугунным, покрытым лишаями ржавчины колоннам на деревянные ступени крыльца стекали мутные ручейки талой воды.
Дрова отсырели. Белье заплесневело. Опять оттепель! В запотевшем окне предбанника проплывают пологие, уходящие за горизонт холмы, что обложены мокрым снегом, и курятся густым клокастым паром. Крыша течет. Пахнет керосином и мышами. Лед почернел. Железный короб с углем воняет. Деревья во дворе умерли. Сдохли еще в конце января, а сейчас уже конец февраля. Они так и стоят на виду у всех — непохороненные.
Был конец февраля. Саша хорошо запомнил те первые дни своего пребывания в Москве. Когда слабый, едва мигающий на сильном ветру свет газовых фонарей в нарушение всяческих законов линейной перспективы выхватывал разрозненные, постоянно перемещающиеся и потому неизменно исчезающие куски уличного пространства: подъезды, скамейки на бульваре, редких, весьма и весьма хмурого вида прохожих, колонны грязного льда, питейные заведения с перекошенными, потрескавшимися от старости наличниками на подслеповатого вида окнах, а еще бесконечные торговые ряды, уходящие в морозную мглу Земляного вала.
Из печных труб поднимался дым.
Во дворе у Красных ворот дрались пьяные дворники. То есть как дрались? А вот так и дрались — хватали друг друга за фартуки, за воротники, за бороды, норовили, идиоты такие, ударить забрызганным глиной носком кирзового сапога в пах, но всякий раз из этой затеи ничего не выходило, и они падали, продолжая кататься в темноте подворотни. Глухо орали какую-то неразбериху, ругались, матерились, вернее даже сказать, плевались словами, как выбитыми зубами, кровью или мокротой, что отходит после продолжительного, надрывного кашля, вызванного чахоткой.