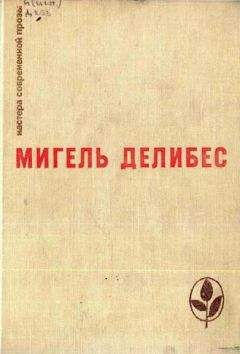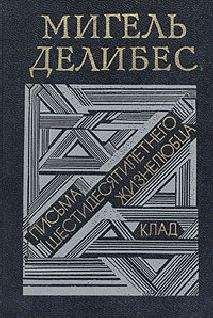— Дон Сенен. Это что — тоже священник?
— Он самый, сеньор, последний наш священник. Это он придумал в ночь на Святую пятницу спускаться вниз, к Пресвятой деве, чтобы она не скучала. А на пасху мы ставили ее на носилки, несли наверх, в горы, и такое гулянье устраивали на Солнечном лугу! — Он покачал головой, и глаза его потеплели. — Вот видите, в нашем селении знали толк в веселье.
Помолчал. И добавил:
— Дон Сенен-то поначалу и не разрешил хоронить Паулино на освященной земле.
Виктор полюбопытствовал:
— А это что за история?
— Всякое бывает, — заговорил сеньор Кайо размеренно и ровно, словно наново заведенный механизм. — Паулино считали колдуном, понимаете? Что-то в нем, видно, было такое, коли мог он с одного взгляда на яйцо точно сказать, кто в нем — петух или курочка.
— Сексолог, — сказал Виктор. — Японцы это умеют, только они определяют пол у вылупившихся цыплят.
Сеньор Кайо снисходительно улыбнулся:
— А вот Паулино, сеньор, узнавал их еще в скорлупе — не успеет курица снести яйцо, а он уже знает.
— Как же он это делал?
— Не скажу — не знаю; бывало, только посмотрит яйцо на свет — и определит. Некоторые говорили, мол, по тени от зародыша узнавал. Не знаю. Паулино не объяснял как.
— И всегда угадывал?
— За семьдесят лет никто ни разу его на ошибке не словил.
Неторопливые рассуждения сеньора Кайо разжигали любопытство Виктора.
— И перед смертью не открыл секрета?
Сеньор Кайо наклонил голову и решительно помотал: мол, нет.
— Видите ли, он умер-то как — никто бы и не подумал.
— А как он умер?
— Так в том вся и штука! Он угадал день своей смерти, право слово предсказал.
Под взглядом трех пар выжидающих глаз сеньор Кайо словно вырастал.
— Погодите, — сказал он и поднял правую руку, словно призывая к спокойствию. — Паулино еще и на картах гадал, понимаете? И как-то вечером сидим мы в баре, то да се, а он и говорит: «Вот мы все собрались, и я скажу вам, в каком году и в какой день я умру», а Бернардо ему: «Этого быть не может, Паулино, такое ведомо только богу». — «И мне тоже будет ведомо», — отвечает ему Паулино. Было это, если мне память не изменяет, в пятьдесят седьмом году. При этом Паулино кладет одну карту на стол, и выпадает трефовая шестерка. «Глядите, вот он, день, — говорит, — шестое». Мы, видя такое дело, все повскакали с мест, собрались вокруг стола, а дон Сенен, помнится, и говорит: «Не шути такими вещами, Паулино, не испытывай господа бога». Но Паулино уже в раж вошел, вытаскивает еще карту — пятерка червей. Он сосчитал по пальцам и говорит: «Май», потом всех нас оглядел и опять говорит: «Шестого мая, а теперь посмотрим, в каком году», а дон Сенен снова: «Остановись, Паулино, не испытывай господа». Но Паулино уж если за что брался, то брался: страсть упорный был мужик. И опять вытаскивает карту: шестерка бубен, и — не успел дон Сенен слова сказать — еще одну: четверка червей. «Шестьдесят четвертый год! — говорит. — Умру шестого мая тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года!» А Бернардино — тот страшный поперечник был — говорит: «А вот спорим на синенькую, что нет». Паулино ему: «Идет». Я разбивал их и говорю Бернардо: «А как ты ему заплатишь, если он преставится?» Бернардо почесал затылок и говорит: «Тогда я заплачу за гроб, за выпивку и за погребение, годится?» — «Годится», — говорит Паулино. Дон Сенен тут не выдержал и ушел, а на прощанье сказал Паулино: «Дьявол надоумил тебя на это дело, не желаю быть свидетелем».
Лали, Виктор и Рафа глядели на сеньора Кайо не мигая. У Рафы в зубах тлела сигарета — он забыл про нее. Когда сеньор Кайо замолк, Рафа вынул сигарету изо рта и сказал:
— Только не говорите, сеньор Кайо, будто этот Паулино умер в тот самый день. Вы нам просто морочите голову.
Сеньор Кайо снова поднял руку.
— Погодите, — сказал он. — И вот наступает пятое мая шестьдесят четвертого года, другими словами канун, а Бернардо — в тот день все не по нем было, все не так, — как пришла пора расходиться по домам, говорит: «Завтра этому помирать, помните?», ну все, конечно: «Точно». А Паулино — в тот день был такой, что дай бог каждому, — оглядел нас одного за другим, а глаза у него, вы бы видели, какие глаза у него были, прямо так и светились, вот оглядел он нас и говорит: «Завтра, завтра я у вас преставлюсь. Не забудь, ты платишь за гроб, за выпивку и погребение». И так он это сказал, знаете, что все мы приуныли, испугались прямо-таки, но пришел следующий день, и Паулино опять ходит гоголем, так что мы решили, все это шутка, собрались как всегда, посидели, то да се, а когда стали расходиться, он говорит: «Счастливо оставаться». Только это и сказал, а наутро вышел дон Сенен звонить к службе и увидел: висит он на галерее своего дома в выходном, праздничном костюме и шапка на голове, что скажете?
— Невероятно! — воскликнул Рафа.
Сеньор Кайо кивнул, согласился:
— Упорный был мужик этот Паулино, такой упорный, вы-то его не знали.
— И Бернардо заплатил за гроб?
— А как же, сеньор, и за гроб, и за выпивку, и за погребение, как обещал.
Наверху, на утесах, галки, сбившись в кучу, подняли страшный гвалт. А над головой, меж буков, задевая крыльями старые кровли, с криком носились стрижи. На углу, у церкви, под навесом, распушив перья, купался в пыли воробей. Виктор вдруг сказал:
— Священник не позволил хоронить на освященной земле из-за того, что самоубийство?
Сеньор Кайо поморгал.
— Поначалу не позволил, сеньор. А потом дон Сенен посоветовался об этом деле в городе, и ему сказали, что нету такого закона, что так бывало в старину, а теперь люди поняли, что если кто сам лишил себя жизни, то, значит, он умом тронут. В общем, дали его похоронить на кладбище, все честь честью.
Наступило глубокое молчание. Немного спустя сеньор Кайо проговорил, словно бы отвечая на свои мысли:
— Дочку Паулино, Каси, во время войны снасильничал санитар из госпиталя. Обрюхатил и бросил. Видно, Паулино не сумел забыть этого.
Галки становились все беспокойнее и не умолкая галдели, примостившись на выступах скал. А над ними без устали кружил ястреб. Виктор сказал:
— Может, пойдем в часовню? А то стемнеет.
Сеньор Кайо словно вернулся из другого мира.
— Правда ваша, — сказал он. — Ян забыл совсем.
Он двинулся к тропинке под буками, уходившей за церковь, и в этот момент над их головами совсем по-домашнему, почти с человеческой интонацией, прокуковала кукушка. Сеньор Кайо обернулся к ним с недоброй улыбкой:
— Слышите, как кричит?
— Кто кричит?
— Кукушка, разве не слышали? — И добавил тише, доверительно: — Дурной повадки птица.
Кукушка снова выкрикнула «ку-ку», и Лали без успеха попробовала разглядеть ее в листве бука.
Лали спросила:
— А почему кукушка — дурной повадки птица?
Глаза сеньора Кайо ожили:
— Кукушка-то? Яйца кладет в чужое гнездо, к малым птахам, чтобы ее птенцов высиживали.
Виктор рассмеялся:
— Как некоторые люди.
— Ясное дело.
— Хозяева и начальники.
— Ясное дело.
Взгляд сеньора Кайо, нерешительно пошарив, уперся в темный и твердый подбородок Виктора.
— А вы сами-то из начальников будете?
— Я? Вовсе нет, сеньор Кайо.
— Но в начальники идете?
Виктор смутился:
— Ну… не совсем так.
Лали смотрела на него и забавлялась. Виктор добавил:
— По правде говоря, я выставляюсь в депутаты.
Сеньор Кайо поскреб затылок.
— А они не начальники разве?
Виктор заговорил тише, как будто стараясь, чтобы товарищи его не услышали:
— Видите ли, депутат в определенном смысле — человек, избранный народом для того, чтобы представлять народ.
— Ясное дело, — сказал сеньор Кайо.
Рафа язвительно рассмеялся.
— Что-то не очень ты убедителен, старик, — сказал он.
Виктор пожал плечами.
— А как бы ты объяснил?
— Я — пас, — ответил Рафа, не переставая смеяться.
Сеньор Кайо, ступив на тропинку, прервал их:
— Так вы хотите посмотреть часовню?
— Конечно, конечно, хотим, — сказал Виктор.
Они гуськом стали подниматься по тропке меж цветущего вереска. Сеньор Кайо взбирался легко, без напряжения — чуть согнулся, голову вобрал в плечи. Рафа шел с трудом, упираясь руками в ляжки, как будто боялся рухнуть. На уступе над самым обрывом лепилась ограда маленького кладбища, над которой высились четыре черных стройных кипариса, а подле на маленькой площадке стояла часовня. Виктор медленно подошел и остановился как зачарованный.
— Вот это да… — пробормотал он.
— Романского стиля, — сказала за спиной у него Лали.
— Или предроманского, — предположил Виктор.
Сеньор Кайо подошел к ним. Сказал с гордостью:
— Ну вот, видите, тыщу лет ей, этой часовне.