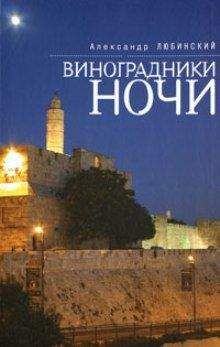Марк подошел к окну. День только начинался, но из сада уже накатывал жар.
— А вы смелый человек. Если пришли сюда один… И у вас хорошие осведомители.
— С Божьей помощью… Мне сообщили, что Христя направилась сюда… Мы давно за ней следим.
— Может быть, вы даже знаете, кто убил отца Феодора?
— Зачем вам это… Оставьте нам.
— Ладно. Эти ваши русские дела… Разбирайтесь сами.
Марк исчез за дверью соседней комнаты и, вернувшись с бумагами, (о существовании которых читатель уже знает), протянул их отцу Никодиму.
С неожиданной резвостью для столь грузного человека тот вскочил с табурета, схватил бумаги, стал торопливо листать.
— Это есть… И это тоже… — бормотал он по-русски. — Но кое-чего не хватает! Вы все отдали? — проговорил он, переходя на иврит.
— Вашего мне не нужно.
Отец Никодим молчал, сверля Марка буравчиками-глазками.
— Вы все равно не сможете этим воспользоваться!
— Я не знаю, о чем вы говорите.
— Ладно. Разберемся…
Сунул бумаги в карман своих безразмерных парусиновых штанов.
— Спасибо за помощь, — сказал.
И вышел из комнаты.
Она ходит по дому — и молчит. Переставляет стулья, с грохотом моет посуду на кухне. Она делает все это яростно, словно сражается с невидимым противником, хочет доказать ему что-то. Ее тяжелый неподвижный взгляд иногда скользит, не останавливаясь, по нашим лицам. «Тея, — говорит отец, — ты можешь, наконец, успокоиться? Перестань шуметь! У меня всего один день, я имею право отдохнуть?» Не отвечает. «Ноги!» — вскрикивает она вдруг, и мы послушно задираем ноги на диван, на котором сидим, — и она также яростно и молча трет тряпкой, уничтожая следы наших тапочек на мокром полу.
Она оживает только с приходом гостей, смеется, кокетничает, поет. Какая очаровательная женщина! Она словно вырывается под софиты из тусклого мирка, в котором живет. В этом мирке она каждый день ездит на работу на другой конец огромного города, весь день, не поднимая головы, считает какие-то цифры, возвращается вечером — усталая и злая, и ее неподвижные темные глаза, не замечая, смотрят мимо меня. Нет-нет, она делает все, что должно. Более того, она чувствует в сыне то же стремление — поверх барьеров — вырваться куда-то, что-то резко изменить, и это ее беспокоит. Он талантливый? Тем хуже. Не нужно высовываться. Это опасно. Порывам нельзя давать воли! «На безрыбье и рак рыба», — выговаривает она ему, словно бьет по голове. И это его стремление вечно забегать вперед, читать книги не по возрасту, размышлять о чем-то… Почему он все время сидит, сгорбившись, под торшером в кресле, и читает? Это так неполезно! Лучше бы пошел погулял. И вот, приходится задерживать взгляд на сыне, тревожно вздрагивать…
А Залман говорит ей: «Тея, ты ничего не понимаешь!» Водянистые глаза его, окаймленные рыжими ресницами, суживаясь, приобретают стальной оттенок, рот с чуть припухлой, как у матери, нижней губой, кривится. Он ходит с папочкой, в которой носит бумаги, и четок как механическая машинка с безотказно крутящимися шестеренками. На самом же деле, ему хочется — оградиться от жены, от того темного, что колышется в ней, подымается, вот-вот выплеснется! И не нападает он, а защищается. Сказал ли он ей хотя бы раз в жизни что-то хорошее? Какой-нибудь комплимент? Похвалил? Вряд ли… Только когда лежал на своей последней постели со сносившимся, отказавшимися крутиться шестеренками, выговорил: «Я хотел бы видеть как можно дольше твое прекрасное лицо». Наверное, даже он в конце концов понял, что и ему нужно умереть…
Было утро, но воздух стремительно тяжелел, наливался жаром.
Проскочив мимо дома Герды, Марк вышел на улицу, зашагал по Невиим. Ворота ресторана были еще закрыты — я прихожу позже, — но во дворе Лена уже расставляла столы.
Из боковых служебных ворот наперерез Марку выбежал Залман: водянистые его глаза смотрели прямо перед собой (прямая как палка спина, кожаная папочка под локтем). Едва не налетел на Марка, отпрянул — несколько мгновений они в недоумении смотрели друг на друга — продолжили свой бег.
Марк вошел в подъезд соседнего дома, поднялся по лестнице.
Протиснувшись мимо трюмо с разбитым зеркалом, (оно уже снова стояло у стены), приблизился к двери, прислушался — позвякивала посуда, плескала вода… Проскользнул неслышно наверх. Вошел, огляделся… Отодвинул ногой чемодан, поднял лежащий посреди комнаты стул. Перевернул. Сел. Из чемодана торчал рукав рубашки. Встал, снял пиджак и шляпу, повесил на стул кобуру с пистолетом, стащил пропахшую потом рубашку, переоделся, нацепил кобуру, надел пиджак, шляпу, снова сел. Внизу стукнула дверь. Встал, подошел к окну. Из подъезда вышел Стенли. Сверху была видна аккуратная круглая лысина. Засеменил в сторону Русского подворья. Приостановился, пропустил дряхлый грузовик, тарахтящий по Невиим; пересек улицу, скрылся за углом.
Марк снова оглядел комнату. Что-то не так… Ах, да, бумаги… На полу валялись ничего не значащие бумажки, дешевая приманка. Теперь их нет.
Вышел из комнаты, спустился на пролет вниз. Резко надавил на кнопку звонка. «Кто?..» — проговорил женский голос. «Ваш сосед. Хотелось бы поговорить». Тишина. Шорох. Звон цепочки. Дверь приоткрылась. На пороге стояла Тея. Посторонилась, пропуская Марка. Она была в темном облегающем платье с короткими рукавами. «Я спешу на работу». «Я тоже», — проговорил Марк, проходя по знакомому уже коридору в салон, где со стены по-прежнему низвергался неслышный водопад.
Марк опустился в кресло, Тея села наискосок на диван. Она сидела на краю дивана, подобрав ноги, и смотрела на Марка… Он вдруг почувствовал, что скользит вниз, в мягкую глубину кресла, веки его отяжелели… Дернул головой, расстегнул ворот рубашки.
— Немного устал… И не выспался…
Улыбнулась.
— Вижу. Хотите есть?
— Хочу, — сказал он, и снял шляпу.
Когда она принесла из кухни сэндвичи на тарелке и большую чашку с дымящимся кофе, он сидел, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза… Вздрогнул, подался вперед:
— Я забыл, вам ведь надо на работу…
— Ничего. Есть еще полчаса. До первых посетителей.
Стал жадно есть. И, пока ел, молчала, разглядывала его.
Доел сэндвичи, допил кофе.
— Хотите еще?
— Нет, — подняв голову, он посмотрел ей в глаза. — Не понимаю, зачем они вам нужны?
— Кто?
— Эти англичане…
Передернула плечами, отвела взгляд.
— О чем вы?..
— Я разговаривал этой ночью с вашим начальником. Стилмаунтом.
Сморщилась как от кислого, выщипанные брови скакнули вверх.
— Не понимаю…
— Он сказал, что недоволен вашей работой. Топорно и непрофессионально. Так что денег от него больше не ждите.
Хохотнула, подалась назад, мелькнуло заголившееся бедро.
— А вы, оказывается, шутник!
— Большой шутник.
— С вами не скушно. Да снимите же пиджак!
Протянул руку, взял ее влажные, подрагивающие пальцы, крепко сжал.
— Больно, — сказала, но не выдернула руку.
И тогда он снял пиджак, и ремень с кобурой, и пересел на тахту.
Позвонил ей из автомата в аллее (между двумя линиями хрущовских домов), засаженной хилыми, так и не принявшимися тополями. Не хотел звонить из дома, чтобы слышали отец и мать. Стянул перчатку, протолкнул монету в щель. Железный диск промерз, крутился с трудом. Она ответила сразу, словно ждала. И ощущение, что — ждала — было самым острым на протяжении всего тревожно-возбужденного, хаотичного разговора.
Вышел из будки, вдохнул полной грудью колкий февральский воздух. Слегка кружилась голова. Огромный кооперативный дом нависал над аллеей. Поднял голову и наверху под самой крышей отыскал два окна, неотличимых от других. За одним из них стояла тахта, стол с лампой под зеленым абажуром, шкаф с книгами. Каждую субботу, не доверяя ему, мать сама убиралась в комнате и, скользя взглядом по корешкам книг, пожимала плечами: «Ты и правда все это читаешь?» «Читаю», — отвечал он. Как ей объяснить, что он чувствует, когда читает книги? Словно нет времени, или все времена — одно. И нет больше отчаянья и смерти, а есть — перекличка и эхо, и звонкие голоса вдалеке как ночью в горах.
Поднял от компьютера голову — за окном вьется белая улочка, слепит солнце, а вдалеке восстают и уходят за горизонт холмы, и кажется, где-то там, уже за невидимой чертой, сливаются с небом.
Протянул руку к телефону, помедлил — снял трубку. Отец не войдет и не спросит, почему закрыта дверь. (С годами он все больше жаждал общения с сыном. Но о чем и как общаться? И металлический голос начинал дребезжать как спущенная струна, водянистые глаза смотрели тревожно). Да и мать не ворвется, не станет волозить тряпкой по полу.
Идти никуда не надо. Некуда идти.
Опустил трубку на рычаг — прошелся по комнате — снова поднял.