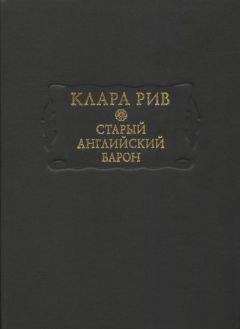В доме Джастина на Иден-роуд он был молчалив и задумчив. Лишь машинально улыбался, принимая поздравления. Эндрю хотел послушать «Героическую» Бетховена, но Эйб сказал, что ему не до классической музыки.
— А теперь поехали к тебе, Эндрю.
— Нет.
— Почему?
— У меня никого нет дома, — соврал Эндрю.
— Ну кто-нибудь да есть?
— Сестра ушла, а зять на работе.
— В самом деле?
Джастин предложил поехать к Херби Соломонсу. Надо утереть нос этому выскочке, сказал он.
— Им придется нас принять, ведь мы же его школьные товарищи.
— Ну?
— Не выгонит же он нас.
— А он сдал?
— Кажется, я видел его фамилию.
— Разве он не ходил в «Аргус»?
— Что ты? Упаси боже! Это для него унизительно!
— Стало быть, он дома?
— Сейчас мы это узнаем. Пошли.
Херби и впрямь оказался дома. В глубине двора стоял внушительного вида особняк с кирпичным фасадом. К нему вела асфальтированная дорога, начинавшаяся от величественных дубовых ворот. Они нажали звонок, вделанный в начищенную медную дощечку.
— Заходите! — пробормотал Херби, застигнутый врасплох. Он ввел их в просторную, забитую массивной мебелью гостиную и пригласил сесть.
— Ты уже знаешь результаты?
— Да. Я им звонил по телефону. А как ты?
— Прошел по первому классу.
— Поздравляю. А ты, Джастин?
— Кое-как сдал.
Эндрю чувствовал себя не в своей тарелке. Его угнетала роскошная обстановка. Ковер во весь пол, глубокие оконные ниши.
— Эндрю тоже получил первый.
— Поздравляю. Я вас должен познакомить со своей матерью.
У Эндрю было лишь одно желание — очутиться дома. Отоспаться как следует. Отделаться от назойливых воспоминаний о Шестом квартале, и Джонге, и Броертджи. Лицо его пылало, как тогда, от пощечины Джеймса, и его опять мутило от тошнотворного запаха крови… Эта проклятая лгунья — миссис Хайдеманн! Пахнет вином и гнилыми зубами, а еще лезет обниматься.
— Это моя мама.
Херби представил им крикливо одетую пожилую женщину с крашеными, огненно-рыжими волосами.
— Это Эйб, ма. Он сдал по первому классу.
— О, поздравляю. Я должна его поцеловать.
Она захихикала, как девочка, запечатлевая влажный поцелуй на щеке Эйба.
— А это Джастин. Он сдал без отличия — как и я.
Она поцеловала и его.
Эндрю боялся, что взорвется, если только она притронется к нему. Как в тот день, с миссис Хайдеманн. Оттолкнет ее, закричит или выругается. Выкинет что-нибудь такое. По спине забегали мурашки.
— А это Эндрю. Он тоже прошел по первому.
— Поздравляю, Эндрю.
Он холодно кивнул, исключая всякую фамильярность. Должно быть, она заметила его враждебность, потому что даже не сделала попытки подойти к нему.
— Ну что ж, думаю, все вы заслужили угощение… А Херби на следующей неделе уезжает в Англию.
Поздно вечером он расстался с Эйбом и Джастином и уныло побрел по Найл-стрит. В жизни не ощущал он себя таким одиноким и отверженным, полным беспричинной ненависти. До чего же гнусна эта баба, притворяющаяся белой! И этот ухмыляющийся идиот, ее сын. Хорош гусь, удирает в Англию!.. Он избавил ее от неловкости — не дал себя поцеловать…
В доме было темно, когда Эндрю вошел через черный ход. Едва очутившись в своей комнате, он с облегчением бросился на кровать.
Музыка давно уже смолкла, а Эндрю все еще лежал неподвижно на кушетке. Бокал его был пуст… Шестой квартал, Джонга, Амааи, Броертджи. Вкус крови во рту, после того как его ударил Джеймс. Теплые дни, когда он поселился у Мириам и Кеннета. Бесконечные споры между Эйбом и Джастином… Ей-богу, он выкинул бы какую-нибудь отчаянную штуку, посмей только миссис Соломоне его поцеловать. Хорош гусь этот ее сынок, удирающий в Англию… Какое прошлое! Какое мерзкое прошлое!.. Долгое время он лежал не шевелясь, слушая тихое шуршание занавесок, колеблемых ветром со Столовой горы. О, если бы жизнь всегда была такой! Музыка, полутьма и Руфь… Вдали от мира, где сжигают пропуска, бунтуют и избивают дубинками. Шарпевиль и Ланга. Разносчик, потерявший свой ботинок. Забавно, как он труси́л весь в крови. И резкий запах мочи в туалете. Попались, как крысы в ловушку! И потом эта драка в автобусе. Хотелось бы знать, поймали они этого юнца, который просил паршивую сигарету и приставал к пассажирам.
Он услышал знакомые шаги на лестнице. Руфь? Да, это она. Он узнал ее по стремительной нервной походке. Щелкнул замок, и комнату затопил свет. Она стояла на пороге, растерянная, затем бросилась в его объятия. Он помогал ей снять куртку, а она тихо всхлипывала.
— Что с тобой, Руфь?
— Я так рада тебя видеть, Энди.
— Я цел и невредим, дорогая.
— О, я так рада.
Ее губы жадно искали его рот, и они долго целовались, стоя в прихожей. Губы у нее были теплые и влажные.
— О, Энди!
— Успокойся, дорогая. Со мной все в порядке.
— Я так счастлива, не могу тебе даже передать.
— Хочешь вина?
Она уселась в кресло, а он налил ей джина, разбавил его тонизирующим и снова наполнил свой бокал бренди.
— Я так переволновалась, милый.
— Подожди, не рассказывай. Сперва выпей свой джин.
— Мне кажется, я совершенно спокойна.
— Тогда говори.
— Сюда приходили два агента.
— Зачем?
— Спрашивали о тебе.
— Какие они на вид?
— Тот, что задавал вопросы, средних лет, с рыжеватыми усами.
— Это Блигенхаут.
— Ты его знаешь?
— Да. Он заходил ко мне в четверг утром.
— Похоже, что ему известно о нас все.
— Меня это не удивило бы.
— Они пригрозили, что сообщат моим родителям.
— Это уже неприятно!
— Я не поеду домой, Энди.
— Не тревожься, дорогая. Потом все обдумаем. А пока послушаем музыку.
— Если ты так хочешь…
— Я слушал Сметану.
_ Да, — сказала она, все еще не успокоенная.
Он вложил «Влтаву» в конверт и стал внимательно просматривать пластинки.
— А я была у тебя в Грасси-Парк.
— Ну?
— Говорила с твоей противной хозяйкой.
— Да? — улыбнулся он.
— Она хочет, чтобы ты немедленно съехал.
— Ради бога, не волнуйся. Я с ней как-нибудь договорюсь.
— Куда же ты денешься?
— С миссис Каролиссен я справлюсь сам.
— Но, Энди…
— Кого бы ты хотела послушать? Бриттена, Перселла[Перселл Генри (ок. 1658–1695) — английский композитор.] или Рахманинова?
— Все, что тебе угодно.
— Концерт номер два для фортепьяно?
— Мне все равно.
Он поставил пластинку Рахманинова и немного убавил громкость. В первую тему ввели восемь прекрасных величественных аккордов.
— А я тут предавался оргии сентиментальных воспоминаний.
— Да? — сказала она, все еще нервничая.
— Ложись возле меня. И я, как Энобарб[Домиций Энобарб — персонаж из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра».], расскажу тебе обо всем.
Он выключил свет, и они легли рядом в темноте. Горный ветерок тихо струил занавеску. Музыка перешла в длинную, плавно текущую мелодию, которую исполняли струнные и духовые инструменты.
— Я так много передумал, пока ожидал тебя.
Она прильнула к нему, и он обвил ее руками.
— О своем детстве и юности, когда я жил в Шестом квартале. О смерти моей матери. В ту ночь я убежал из дому и несколько дней бродил по Нэшнл-роуд, потому что чувствовал себя виноватым. Раскаяние. Полное одиночество.
Музыка убыстрила темп; фортепьяно постепенно замолкло, и струны намекнули на новую тему.
— Потом я поселился у своей сестры в Уолмер-Эстейт. Сад Мириам был полон цинний и флоксов. Изумительные цветы. Красные, голубые.
Эндрю чувствовал совсем рядом ее дыхание. Он нежно погладил ее шею.
— И вот я уже был в выпускном классе средней школы и каждое утро вместе с Эйбом и Джастином ходил по Конститьюшн-стрит.
Ее груди напряглись. Струны возвратились к первой теме концерта, послышались глухие удары клавишей.
— И когда я узнал результаты экзаменов, я вдруг ощутил себя как никогда одиноким. Оторванным от всех людей. То же чувство было у меня на Грэнд-Парейд, когда мальчик предложил мне молитвенник. В тот вечер, когда умерла моя мать, я стоял под дождем и слушал молитву апостоликов.
Началась изумительная вторая часть концерта. Дыхание девушки стало частым и прерывистым.
— Руфь?
— Да, Энди?
— Пожалуйста, Руфь.
— Хорошо.
Она прижималась к нему все тесней, и вдруг его захватила страсть. Он крепко сжал ее в своих объятиях. Почему-то ему снова вспомнилась жизнь у Мириам. И малыши с молитвенниками. И Рахманинов. «Влтава»? Нет, Рахманинов. Рапсодия, ноктюрн. Длинная кода. Прекрасная. Удивительно прекрасная. До слез.