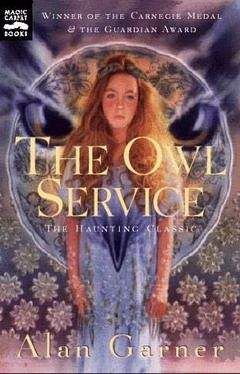Между тем она все чаще заставала эту Раису у себя в доме, приходя вечером из своей библиотеки, и Юра больше не считал нужным даже придумывать очередное недостоверное вранье, ему не было надобности уже и выпивать для большей наглости — он просто приводил ее к себе за перегородку, как в отдельное жилье, наконец оставил здесь ночевать. Сима точно окоченела от невыносимости стыда; ей казалось, что даже вещи вокруг мучаются этим стыдом, как искривляющей судорогой. Кровь стыда приливала к ее щекам так сильно, что не выдерживали мелкие сосудики, лопались лило вой сеточкой, а она словно бы глохла для обычных звуков, уши были заложены стеклянной сухой ватой, трескучие волоконца ее расправлялись внутри, шуршали голосами, напоминавшими тихое, но отчетливое радио, и эти голоса впрыскивали из ушей внутрь головы, как тоскливую отраву, все, чего она не хотела и как будто не могла слышать вокруг: шепоты, шорохи за фанерной издевательской перегородкой, и ерзанье, и чмоканье, постыдные звуки, от которых уже невозможно было ничем отгородиться.
Когда время спустя выяснилось, что она просто больна, это оказалось облегчением — для обоих. Это объясняло все: ее поведение, и оцепенелость, и неспособность сопротивляться — и почему, наконец, он тоже не мог оставаться с ней, он вынужден был себя вести так, как вел. Болезнь была причиной и объяснением всего; она же оказалась и выходом. Вначале, правда, ее поместили в неподходящую, пропахшую выделениями человеческого распада палату, где женщины, все похожие на истощенных неприбранных старух, хотя были разного возраста и комплекции, сидели, не произнося ни слова, бродили между кроватей, точно не могли вспомнить, чего ищут, бормотали себе под нос или вдруг начинали кричать вовсе без смысла. Сима, слава богу, к этой палате не подошла, у нее оказалось что то с обычными сосудами. Не с теми, конечно, что полопались на щеках. У нее самой было странное ощущение, будто какой-то крохотный ниточный узелок лопнул в середке мозга, ближе к затылку, дав о себе сперва знать очажком излучающей боли, но потом онемев до бесчувственности, так что именно через него не могли пробиться для соединения в памяти какие-то слова и мысли. Особенно трудно бывало вспомнить слова в разговоре с врачами; тут, может, еще первоначальный испуг добавлялся или стеснение. Своих самодеятельных медицинских догадок Сима выдавать им, конечно, не стала. Соображала она, в общем-то, вполне нормально и наловчилась подбирать обходные слова вместо запертых.
Вот чего действительно не удавалось восстановить, так это почему-то стихов, заученных еще в школе, даже песен, памятных, казалось бы, с детства. Мелодии при этом все остались, вот что странно, их можно было напевать про себя с чувством даже вроде бы брезжащего смысла: слова как будто присутствовали внутри музыки, в ритме, но неявно, смазанно, лишь иногда прорезались поодиночке: та та та та та Дунай… (Женщины, распевая, шли от реки, тазы, прижатые ребрами к бедрам — как будто на бедрах лежащие — колыхались в такт шагам, в такт песне: та та та та та Дунай, белье пахло речной свежестью…) Чего же еще не хватало? У нее тогда еще была надежда, что со временем музыка вообще поможет памяти лучше лекарств, ведь дома ее дожидалось еще и пианино. Играть на нем, правда, она по-настоящему не научилась, но подбирать без нот кое-что умела. Только вот вернуться к нему — то есть в тот же дом — было совершенно немыслимо. Сима даже думать об этом боялась.
Она готова была оставаться сколько угодно в этом терпимом отделении, где летом выпускали даже гулять в маленький пыльный садик, там чирикали и суетились воробьи, искали что-то в сорной траве, выясняли неизвестные отношения, на них можно было смотреть долго-долго. Юра время от времени ее навещал, приносил, как положено, апельсины и сок, сыпал щедрей обычного прибаутками, заполнял время словами, чтобы не томиться молчанием — или для чего-то еще? Трудно было отделаться от чувства, что и он, как она, ищет способ вытеснить, заглушить постороннее механическое шебуршанье, бормотанье неживых волоконец вокруг ушей или внутри головы — а может, не замечая, сам его как бы озвучивает. У нее была мысль попросить, чтобы он принес из дома какую нибудь книжку стихов для воспоминания, но опять же удержал страх, что будет читать только слова, не узнавая того, чем они были прежде. Она ведь и на Юру смотрела с мучительным напряжением: действительно ли с этим человеком что то было связано в ее жизни? — и не получала подтверждения.
Однажды он пришел, возбужденный больше обычного, принес целую папку бумаг, напечатанных на машинке, разграфленных и заранее заполненных, там надо было только поставить подпись. Речь шла об уже назначенном сносе дома, о необходимости срочно оформить развод и так же срочно оформить брак с Раей, чтобы тут же ее и прописать, в таком случае двум семьям должны бы ли бы предоставить отдельные квартиры, причем Юре с Раей как минимум даже двухкомнатную, потому что она очень кстати забеременела, и он уже договорился с кем надо обо всем, что надо, а с кем надо раздавил бутылочку-другую, это даже не так дорого стоило, ты не поверишь, такую возможность нельзя упустить, все в выигрыше, — похохатывал, возбужденный и довольный своими прохиндейскими способностями, но на нее посматривал с заискивающей неуверенностью: от ее подписи теперь все зависело. Слабые фигуры людей в больничных одеяниях медленно проплывали по больничному садику. Вялый умственный голос напоминал Симе об опасности подвоха — но такой он был ослабленный, такой безразличный, как будто речь шла не о ней: так было все равно. «Если б было все равно, люди б лазили в окно», — с готовностью подхватил он подписанные листки. «А люди не бздели, прорубили двери»…
Нет, он и тут ее не обманул, он действительно сделал, как говорил, даже в какое то учреждение, то есть суд, не только свозил ее из больницы, переодев в лучшее, из дома принесенное платье, но взял на себя все хлопоты, оформление и перевозку вещей. Без него бы она просто не справилась, могла бы, глядишь, и вовсе остаться ни с чем. Это лишь потом по настоящему до нее дошло; каких только историй она не наслушалась! При тогдашней ее беспомощности легче легкого было ее обмануть. Из больницы она вернулась уже в новую отдельную квартиру на первом этаже чужого девятиэтажного дома. Все вещи и мебель, включая пианино, были уже на месте и, вероятно, в сохранности, проверять подробно у нее не было сил, она извлекала потом разные предметы из упаковочных коробок долго, без охоты, по надобности, а так обходилась. Какая то у нее вдобавок появилась неприязнь к всегдашним вещам, даже к собствен ному белью; она, одеваясь по утрам, старалась как бы себя не видеть в этих зимних чулках с резинкой, лиловых рейтузах, спешила поскорей закрыться сама от себя платьем. Точно так же неприятен ей стал процесс еды — точно постороннее пристальное сознание против воли отмечало то, что должно было совершаться автоматически, без внимания, в потайной темноте кишок, желудка или мочевого пузыря. Наверно, это были тоже от ветвления болезни, с ними надо был справляться самой, не рассказывая никаким врачам, как не рассказывала она о тех же голосах, что до конца не утихомирились все-таки и в новой квартире.
Не могла же она в самом деле объяснить, почему, едва переселясь, позвала электрика срезать все провода и розетки радиотрансляции. Со стороны это выглядело, должно быть, скаредностью: платить за радиоточку и надо-то было всего 50 копеек в месяц. Да и от голосов это, увы, мало избавило, она сама про себя понимала, что они вряд ли нуждались в особых приспособлениях — иной раз знакомые, как будто уже где-то слышанные или читанные: вперед и глубже, на штурм заданья, значит, кашу не варить, а по городу ходить… Бормотанье на грани полуяви, полусна, без музыки, вперемешку с бессловесными шорохами, точно из-за стенки или с неизвестного этажа: скрип пружин, и тошнотворное чмоканье, и ритмичное, однообразное содрогание воздуха, и отчетливые до каждого слова шепоты. «Давай вот так, поудобнее». — «Вот так хорошо». — «Хорошо, клопов не стало». — «Не, один выполз, когда я стелила». — «Может последний, на издыхании». — «Может». — «А если нет, опять вызывать придется». — «Гарантию обещали на полгода». — «Пусть тогда бесплатно доделывают». — «Постой, я лучше вот так». — «Дверь закрыть не забыла?» — «Не забыла. Вот так хорошо?» — «А вот так?» — «М-м-м». — «Тише, ребенок услышит». — «Он все равно еще не понимает». — «Я маленькая была, уже понимала… У-и-и». — «Постой, еще не спеши». — «М-м». — «О-о»… И ритмично, однообразно, пробиваясь к наслаждению или облегчению — ведь бывает наслаждением даже облегчение нужды…
Существовали ли эти голоса взаправду, помимо ушей, была ли тут нерассосавшаяся до конца болезнь или необъяснимо обостренная восприимчивость слуха? В таких вещах вообще ведь не всегда разберешься. Когда твою кожу то тут, то там начинают покусывать как бы мелкие насекомые — какая тебе разница, существуют ли эти мураши на самом деле? Ты хлопаешь себя по зудящему месту и чешешь его, не разбираясь, — результат одинаков. Если начнешь так вдумываться: еще вопрос, зачем нынешние молодые люди носили в ушах музыкальные затычки, а другие включали на полную громкость свои домашние устройства, чтоб говорили явственно о погоде, о битве за урожай или просто играли — заглушая, может, что-то другое? Они, может, сами не отдавали себе отчета.