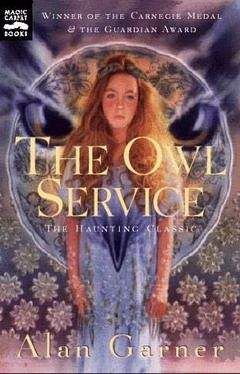Существовали ли эти голоса взаправду, помимо ушей, была ли тут нерассосавшаяся до конца болезнь или необъяснимо обостренная восприимчивость слуха? В таких вещах вообще ведь не всегда разберешься. Когда твою кожу то тут, то там начинают покусывать как бы мелкие насекомые — какая тебе разница, существуют ли эти мураши на самом деле? Ты хлопаешь себя по зудящему месту и чешешь его, не разбираясь, — результат одинаков. Если начнешь так вдумываться: еще вопрос, зачем нынешние молодые люди носили в ушах музыкальные затычки, а другие включали на полную громкость свои домашние устройства, чтоб говорили явственно о погоде, о битве за урожай или просто играли — заглушая, может, что-то другое? Они, может, сами не отдавали себе отчета.
Надежда Симы на пианино в этом смысле, увы, не оправдалась. Оно, похоже, совсем расстроилось от перевозки, звуки не совпадали с теми, что помнились внутри, и не просто скребли кожу: дрожь струн передавалась через пальцы всему телу, так что подступало к глазам… Настройка ей вряд ли была теперь по карману, а главное, вряд ли ей это бы помогло.
Если что стало облегчением жизни, так это восстановившаяся привычка бессознательного ежедневного существования. Вернуться на работу в прежнюю библиотеку она даже не попробовала, туда и ездить было далеко, и не взяли бы ее, наверное, теперь. Ее вполне устраивала простая работа в газетном киоске. Зарплаты вместе с инвалидной пенсией было даже больше прежнего. Встаешь каждое утро в половине шестого, незаметно для самой себя совершаешь одни и те же повторяющиеся действия, так что через десять минут после завтрака уже и не вспомнишь, что ела, идешь зимой затемно, когда во многих окрестных окнах еще не зажигался свет, включаешь электрическую печурку для обогрева ног, принимаешь и пересчитываешь товар, а у окошка тем временем уже собирается очередь. Шофера, выезжавшие на работу с ближней автобазы, останавливали по пути свои фургоны, покупали для дневного чтения сразу по несколько газет. В половине пятого очередь побольше выстраивалась уже в ожидании «Вечерки». По чему-то многим не терпелось прийти заранее, хотя газет хватало на всех: просто нравилось, видимо, постоять, посудачить, обсудить новости. В основном это бы ли пенсионеры, а первым всегда оказывался местный дурачок Гриша, он покупал сразу десяток, чтобы потом перепродать опоздавшим с небольшой для себя прибылью; это был способ его заработка. Разговоры за окошком Сима слушала краем уха, не особенно их понимая, поскольку в больнице совсем уж отстала от имен и новостей, а телевизора и радио не имела. Даже газеты свои она лишь просматривала на первых страницах; заголовки слишком напоминали знакомые, смущавшие голоса: «Ускорим темпы», «Все глубже в недра»…
День за днем слипались в одно неразличимое вчерашнее время, как слипались друг с другом, происходя непрерывно, отдельные мелкие события. Из-за этой непрерывности их трудно было разделить потом в памяти. На Симу подействовал однажды разговор пожилой женщины в обычной очереди за «Вечеркой». Это была еще крепкая, уверенная в себе пенсионерка, из тех, что всегда бывают правы и все знают лучше других. Она с особой гордостью рассказывала, демонстрируя свои безжизненного цвета руки, что через них, через эти вот руки, прошли на заводе «Каучук» все поручни эскалаторов московского метро, с тридцатых еще годов. Она всю свою рабочую жизнь принимала у конвейера готовую продукцию и посыпала эти поручни тальком. Сима вдруг попробовала себе представить эту бесконечную толстую черную ленту, однообразно протекавшую через живые руки, через всю жизнь, день за днем — и какой же мерой надо было мерить эту жизнь, как было в ней различить сантиметры, метры или километры непрерывной полосы, пересыпанной тальком, чтоб не слипалась? Каким, то есть, тальком было пересыпать эти вот самые дни и часы однообразной жизни — все с той же, проходящей мимо сознания и памяти готовкой, стиркой, магазинами, процедурами в туалете и мытьем собственного тела? В памяти застревали скорей неприятности, нарушавшие этот нормальный поток: водопроводная авария, приступ серьезной болезни, обворованная (впрочем, по соседству) квартира. Хотя тут была тоже, наверное, своя неправда. Неприятности ведь не могли быть существенней обычной жизни, вспомнить можно было не только их…
Еще вдруг Симе пришло на ум, что человеку лишь кажется, будто он живет непрерывно всю свою жизнь. На самом деле это оказывалось невозможно, как невозможно было, например, всю жизнь бодрствовать. Какая то ее часть должна была уходить на сон, и это было вовсе не самым потерянным временем. Сновидения, скажем, бывали ярче остальной жизни — если их, конечно, удавалось вспомнить. Но то, что не затрагивало сознания и памяти, словно в самом деле исчезало из действительности. Можно ли было в собственном теле ощутить течение времени? Только замечаешь вдруг, точно очнувшись, что зубов во рту стало меньше, кожа на лице обвисла, разношенная, ничто, томившее между ног, не доставляет больше ни хлопот, ни волнений — а еще недавно бодрая, казалось бы, пенсионерка успела, глядишь, превратиться в не сразу узнаваемую, слезливую, сгорбленную старушку: вот она, уже не ходит по улице, а переступает, как переступают в очереди, надолго останавливаясь перед каждым следующим шажком. У приступочки же тротуара она вовсе замирала беспомощно, дожидаясь, пока случайный прохожий поможет ей спуститься. Но уж ухватив кого нибудь цепкой лапкой под локоть, старалась не отпустить подольше, плачущим голосом просила проводить до следующей приступочки, а если кто поддавался — и до магазина, и с первых же шагов начинала слезливо жаловаться на соседа, который всячески травил ее и обижал, подсыпал клопомор в кастрюли, а вчера (каждый раз это было вчера) стукнул ее половником по голове с явным желанием убить — вот, можешь пощупать шишку; жалоба переходила на дочерей, которые ни копейки ей не присылали, на собес, который обманул ее с пенсией. Были эти жалобы одно образны и докучны, попавшиеся один раз старались больше эту бабку не замечать, проходили мимо, как бы задумавшись или отвернувшись в более важную сторону. Сима покорно давала себя ухватить, и бабка облюбовала ее в свои постоянные жертвы. Она даже нарочно подгадывала для своих выходов час, когда в киоске начинался обеденный перерыв, так что Симе приходилось жертвовать частью этого времени, выслушивая слова, каждый день те же, как лента эскалаторных поручней, о которых старуха тоже продолжала поминать как о наивысшей гордости рабочего человека, создавшего вот этими вот руками все, что присваивала потом интеллигенция вроде Симы.
Симина покорность была не просто от жалости, ей как будто самой надо было немного подержаться за продолжавшую жить старуху. Ее смущало незаметное исчезновение других: просто переставали вдруг появляться во дворе и у киоска. Точно растворялись. Лишь иногда соседские старички и старушки собирались озабоченной тихой стайкой возле автобуса, дожидавшегося у подъезда, чтобы увезти такого же, как они, прямо из квартиры на кладбище. Было странное чувство все более спускаемого воздуха: как будто открывалась где-то дыра в неизвестную пустоту, с которой все здесь когда-нибудь должно было сравняться…
Однако настоящего сдвига чувств она бы не испытала, если бы нечаянная встреча не пробудила ее однажды точно от какой-то спячки. Это случилось в пору, когда из магазинов стали исчезать самые простые товары, и Сима как раз обнаружила, что осталась совсем без соли, потому что в отличие от других не позаботилась сделать основательные запасы. Кто-то сказал ей, что видел соль в одном из сравнительно отдаленных магазинов. Пришлось отправляться туда. Пачки соли были действительно сложены в витрине аккуратной пирамидой рядом с такой же пирамидой рыбных консервов, больше под стеклом ничего не было. Сима увидела их сразу от дверей, но прежде, чем у прилавка она подняла взгляд на продавщицу, сердце ее неприятно сжалось — точно знакомый, напоминающий о тошноте запах коснулся ее ноздрей. Нарумяненное, как у кустарных кукол, белое круглое лицо, естественно, располнело, как бы раздулось, и поредевшие волосы крашены были в белокурый цвет, но не узнать ее было, конечно, невозможно. Рая, судя по вздрогнувшей на губах усмешке, тоже явно ее узнала. Отступать было поздно, Сима быстренько опустила взгляд опять на прилавок, где, однако, ничего не прибавилось для разглядывания — но можно было считать, что она как бы сдержанно кивнула, ничего не уточняя словами. А в следующий миг увидела позади прилавка круглое детское личико. Мальчик двумя руками передвигал машинки по перевернутому картонному ящику из-под масла. Он вскинул на нее длинные загнутые ресницы, и взгляд его зеленоватых, словно затуманенных глаз уколол Симу.
«Мой», — с готовностью подтвердила Рая, не дожидаясь формального вопроса и вообще обойдясь без предварительного приветственного ритуала. Магазин был не менее пуст, чем прилавок, Рая была явно не прочь поговорить перед безмолвной, словно отчего-то онемевшей посетительницей. Сам вид ее делал необязательными особые выяснения, хватило немногих промежуточных междометий. Превосходство материнского положения было очевидным, Раю даже потянуло его немного затушевать. Она зачем-то стала рассказывать, как не удалось пристроить Славика в летний лагерь, а дома ремонт, и отпуска не дают, приходится мальчику вот так проводить лето. Даже погулять поблизости негде, все кругом, видишь, перерыто, и по нынешним временам выпускать одного боязно, тем более он такой рассеянный, ему вроде бы очки надо выписывать… Мальчик прислушивался к разговору, наклонив к плечу круглую мордашку. К грязной щеке его прилипла светло зеленая сухая сопелька. Про Юру в тот раз не было сказано ни слова, и Сима не спрашивала, она вообще не в состоянии была ничего спросить, только дожидалась возможности попрощаться. И лишь вернувшись домой, обнаружила, что соль-то купить забыла.