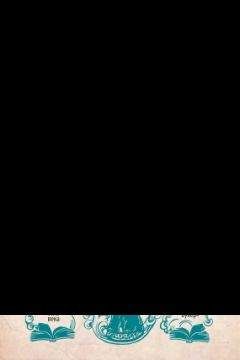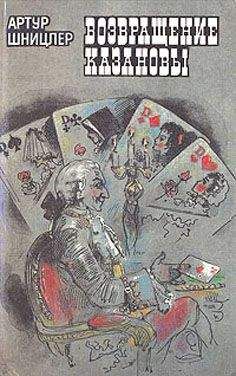Я знал, что там пусто, и знал, что умру. И готовился к этому, посещая преддверие небытия – черно-белые сны про скелеты деревьев, ронявшие снег с костистых ветвей, а в промежутках пытался выблевать пустоту, – пустое, право же, дело!.. Долбонос озадаченно грыз заусенцы и время от времени предупреждал:
– Если сдохнешь, покуда я тут, скот будешь конченый.
Дважды меня навещала Инесса, садилась на стульчик рядом с кроватью и ждала терпеливо, когда я проснусь. Было приятно увидеть ее, размыкая над собственной смертью опухшие веки. Директриса касалась прохладной рукой моего горячего лба, а я понимал, что она опоздала. Или, напротив, слишком рано пришла: если кого представлял я кладущим ладонь на остывший мой лоб, так это ее. Желая меня подбодрить, Инесса неловко увечила красноречивое наше молчание:
– И чего ты надумал? Никогда не болел, а тут на тебе! Давай на поправку, а то влеплю выговор.
Потом прощалась фальшивой улыбкой и шушукалась в коридоре с врачом. Слышно было, как тот сердится и ворчит:
– Да нет же, говорю я вам! Никакой заразы. Таблетками это не лечится! Как хотите, но я патологии не обнаружил. Душу, товарищ директор, одними уколами не исцелишь.
Под их спор я опять уплывал к своим голым деревьям, ронявшим с ветвей, как последнюю плоть, мокрый, крупчатый снег.
Юлька проникла к нам ночью излюбленным способом – через окно. Открыв глаза при звуке знакомого голоса, я смотрел, как она тычет пальцем в грудь Долбоносу:
– Значит, так. Я пришла не к тебе. Это раз! Пришла я к нему. Это два! Только Альфонс ни за что не поверит, что пришла я сюда не к тебе. Это три… Потому я сюда не пришла, а тебе это только приснилось – четыре! А захочешь проснуться, я закричу. Это пять… Сейчас я гляделки тебе завяжу, и ты больше меня не увидишь. Эт шесть. Ну-к, подвинь морду… Давай теперь руки.
Долбонос сопел в темноте, а когда зашалил, заработал пощечину.
– Я те лапы-то распущу! Может, кликнуть Альфонса?
Валерка сказал восхищенно:
– Ну ты, Юлька, и гад!..
– Чуть не забыла, есть еще семь: запри слух. Не на сцене сегодня любовь я играю.
Подойдя к моей койке, она неуклюже и плохо, слишком по-бабьи, вздохнула, окропила крестным знамением обращенный к себе вопль молчания, скинула валенки, пала коленями сверху, сложила молитвенно руки, воздела очи горе и забубнила: “Иже еси на небеси, не коси и не беси, а спаси и колоси, да любовь к себе паси”. Свет от лампочки в коридоре крошился из-под дверной занавески сероватым тальком ей на платье, которое, едва молитва закончилась, как-то очень уж скользко и быстро сползло, явив моему воспаленному взору змейку ее наготы. Тело у Юльки было худым и горячим. Упершись руками в подушку, она замкнула мне бедра силуэтом рогатки, воздетым межветвием вверх, бросила волосы мне на лицо, смела с него взгляд и, потащив за край одеяла, выпростала меня из скомканной шкуры прокисшей болезнью постели и стряхнула блеклую кляксу на пол. Одеяло плюхнулось в таз.
– Как бронежилет, загремело. Чего это там у тебя?
– Риголетто, – пояснил в темноте Долбонос. – Не получится с этой дохлятиной оброгатить Альфонса. Самое большее заморишь червячка мертвячку.
Наш ответ Долбоносу был хором:
– Урод!
– Шшшш, бесстыжие! – раздалось вдруг из-за стены. Вслед за этим в нее кто-то стукнул.
– Любаха, – шепнула мне Юлька. – Расплатишься с нею – не выдаст. Ладно, молчим.
– Расплачусь? – спросил я.
Она отмахнулась:
– Потом.
Какое-то время я был занят лишь тем, что дышу. Не могу утверждать, что оно у меня здорово получалось. Я пробовал Юльку обнять – она схватила меня за запястья, так что руки ее вернулись в подушку, вцепившись в подобие распятия. Изгибаясь всем телом, ворожея исполнила надо мной странный танец, каждый такт которого отмечался уколом прикосновения. Я слушал, как у меня по тулову, будто по карте, вспыхивают мурашки ужаленных целей. Когда я весь запылал, Юлька стала гасить мое тело губами, не позволяя рукам моим вырываться из плена. Я извивался под ласками и собирал испарину ртом с перекладины худеньких плеч, норовя ухватиться за блуждающий трюфель соска. Чем больше я подвергался изнурительной экзекуции, тем глубже осознавал родство любви с бесконечностью, которая на удивленье легко завернулась в одежды нашей бескрайней и алчущей кожи. Опускаясь все ниже лицом, Юлька, при всем отвращении к буквам, не могла не узнать посланный ей восклицательным знаком сигнал. Подобно отличнику, угадавшему верный ответ, он настаивал на поощрении, так удачно объявшем его чуткой своей и языческой немотой, что стыдливость моя не страдала.
Не успела закончиться одна вечность, как началась другая, в течение которой я утолял неуемную жажду сосками. Грудь номер три в моей жизни проигрывала второй в размерах, зато ощутимо превосходила ее неукротимой отзывчивостью. В Юльке словно проснулся звереныш. Он рычал и царапался, но ради него я снес бы всякую пытку, что доказывал со всем усердием, пока вместо груди мне на пробу не поднесли главный приз – Юлькины губы. Во мне будто что-то со стоном открылось, потом в это что-то пролился душистый поток, заполонивший прохладой мне легкие. Я всхлипнул, запнулся дыханием, скомкался сердцем, оглох и, чтобы выжить (хотя бы этим воспоминанием), воспарил из себя в поредевшую ночь.
Мало кому судьба дозволяет обозреть себя со стороны. Я поспешил извлечь пользу из своего положения и фиксировал каждый мазок на картине. Не полотно, а шедевр, в самом центре которого кофейными тенями сплетались мы с Юлькой, рисуя такое обилие рук, ягодиц, петляющих русел, такое мельканье лодыжек, лопаток, овалов, приямок, углов, позвонков, что, не происходи действие в полутьме, у меня б зарябило в глазах. Все это скопище членов взмывало, крутясь и качаясь на пружинящих волнах влечения, в беспотолочную высь (потолок будто бы растворился) – туда, где мгновенье назад я как раз отыскал свою душу. Совершенности зрелища не сумело испортить и то, что творилось украдкой на продольных границах картины, мыльно растекшихся – с двух краев рамы из масляных стен – осторожными пенками света. Под одной из них, словно в лужице, что натекла из слепого от снега окна, барахтался, точно в падучей, привязанный к спинке кровати Валерка, а напротив него, в полураздетом стекле, из-под сдвинутой пальцем дверной занавески, приплюснуто и плотоядно наблюдала Любаша. Эти два островка зимней бледности на обочине исступленной, сгорающей красками страсти оказались единственными источниками освещения для исцелявшего дух мой чрез пиршество плоти холста.
Очнулся я снова в постели в тот миг, когда Юлька, оторвав свои губы от моих (звук получился почти непристойный, но при этом как будто из детства), резко отпрянула, колыхнув серебристую крону волос, дернулась и застыла, озадачив меня полузакрытостью век да припухлой улыбкой вкруг блеснувших, некстати и хищно, зубов. Невозможно было понять, видит ли Юлька меня или того, кто ей видится в вызванной пляскою грезе. По груди текла влажными искрами дрожь. Юлька вздыхала, как-то рывком и навзрыд, и сразу опять замирала, сосредоточившись всем своим забытьем на покуда что скрытном и мне непонятном занятии. Я тщетно хватался ладонями за ее переставшее слушаться тело, чтобы нащупать в нем точку ее пробуждения. Кабы не вороватое поскрипывание кровати, сопровождавшее всякую дрожь, да взрезавшие переносицу паутинки неведомой мне и отчаянной мысли, можно было б подумать, что Юлька лишается чувств. Наблюдать за лицом, напрочь забывшим меня, было мукой.
Вдруг из Юлькиной глотки вырвался хрип, да такой утробный и лютый, что я впал в недвижность. Через миг ощутил, как страж моего всеотличия был ухватисто словлен в объятье куда нежней прежнего. В ту же секунду мне в ребра вонзилась рогатка колен, а на шее своей я почувствовал пальцы. Отныне, чуть только я проявлял нетерпение, пальцы смыкались на ней смертельным кольцом. Так началась наша самая длинная вечность, утомительнее и прекрасней которой я пока что не знал.
Я входил в Юльку так долго, так плотно, так полно и так навсегда, что мое погружение в женщину (первое в жизни!) ознаменовалось величайшим из потрясений – потрясением сотворения мира, мира нового, цельного, неразъемного и неразделимого, где нет лишнего – стало быть, нету сиротства и нету стыда, – а из того, что имеется, все пригнано встык и на совесть: от поршня и втулок до спазмов и сердцебиения. Когда сталагмит мой пробрался до самого свода пещеры и уткнулся в него острием, заслужил я особую милость – право опробовать вечность на прочность. Робко ее колупнув, я прислушался к тихому эху, расценил его как поощрение и осмелел.
Оказалась на диво податлива вечность. Поначалу опасливо, а потом все настойчивей, все жаднее, быстрее я высекал из нее проворные крылья осколков – то ли Юлькиных стонов, то ли всхлипов новорожденного времени. Я строгал и строчил его по первобытному безошибочному наитию, презрев кандалы на запястьях и сжавшие горло мне пальцы. Когда наш галоп достиг апогея, Юлька птицей вскинула руки, потешно подпрыгнула, но, никуда не взлетев, вместо полета вдруг заорала (отчего-то простуженным басом):