Он рассеянно повторял: «Что я буду без тебя делать? Что я буду без тебя делать?» Он пытался вспомнить, сколько у Вайса детей. Вайс искоса с беспокойством поглядывал на него:
— Пустяки! Найдете мне замену.
— Ну, нет! Хватит того, что я плачу тебе за то, что ты ни черта не делаешь; что же мне — повесить себе на шею еще одного бездельника? Твое место останется за тобой, мой мальчик.
Вайс выглядел растроганным; кося глазами, он тер себе нос, он был ужасающе некрасив.
— Хозяин… — начал он.
Бирненшатц прервал его: благодарность всегда конфузит, и потом, он не испытывал к Вайсу ни малейшей симпатии: бегающие глаза и толстая нижняя губа, дрожащая от доброты и горечи — он был из тех, кто несет на лице печать обреченности.
— Хорошо, — сказал Бирненшатц, — хорошо. Ты не покидаешь фирму, ты просто будешь представлять ее в офицерском корпусе. Ты лейтенант?
— Я капитан, — ответил Вайс.
«Обреченный капитан»., — подумал Бирненшатц. У Вайса был счастливый вид, его большие уши были пунцовы. «Обреченный капитан — уж такова война, такова военная иерархия».
— Какая отъявленная глупость эта война, а? — сказал он.
— Гм! — хмыкнул Вайс.
— А что, разве это не глупость?
— Конечно, — сказал Вайс. — Однако я хотел сказать: для нас это не такая уж глупость.
— Для нас? — удивленно переспросил Бирненшатц. — Для нас? О ком ты говоришь?
Вайс опустил глаза:
— Для нас, евреев, — сказал он. — После того что сделали с евреями в Германии, мы имеем все основания сражаться.
Бирненшатц сделал несколько шагов по комнате, он разозлился:
— А что это такое: мы, евреи? Мне это непонятно. Я — француз. Ты что, чувствуешь себя евреем?
— Со вторника у меня живет кузен из Граца. Он мне показал свои руки. Они их прижигали сигарами от локтя до подмышек.
Бирненшатц резко остановился, он схватил сильным! руками спинку стула, и мрачный огонь бешенства полыхнул на его лице.
— Те, кто это сделал, — сказал он, — те, кто это сделал…
Вайс заулыбайся; Бирненшатц успокоился:
— Это не потому, что твой кузен — еврей, Вайс. Это потому, что он — человек. Не выношу, когда совершают насилие над человеком. Но что такое еврей? Это человек, которого другие люди считают евреем. Вот посмотри на Эллу. Разве ты бы принял ее за еврейку, если б не жал ее?
Вайс не казался убежденным. Бирненшатц пошел на него, ткнул его в грудь вытянутым указательным пальцем:
— Послушай, мой маленький Вайс, вот что я тебе скажу: я уехал из Польши в 1910 году, я прибыл во Францию, Меня здесь хорошо приняли, я почувствовал себя здесь как дома, я сказал себе: «Все хорошо, теперь моя родина — Франция». В 1914 году началась война. Ладно, я сказал себе: «Воюю, потому что это моя страна». И я знаю, что такое война, я был на Шмен-де-Дам. И сейчас я могу одно тебе сказать: я — француз, не еврей, не французский еврей: француз. Мне жалко евреев Берлина и Вены, евреев в концлагерях, меня бесит от мысли, что кого-то терзают. Но послушай меня хорошенько. Я сделаю все, что смогу, чтобы помешать французу, одному-единственному французу, сломать себе шею ради них. Я чувствую себя более близким первому попавшемуся прохожему, которого встречу на улице, чем моим дядям из Ленца или племянникам из Кракова. Дела немецких евреев нас не касаются.
У Вайса был замкнутый и упрямый вид. Он сказал с жалкой улыбкой:
— Даже если это и правда, хозяин, вам лучше этого не говорить. Нужно, чтобы те, кто уходит на войну, имели основания драться.
Бирненшатц почувствовал, как краска смущения залила ему лицо. «Бедняга», — с раскаянием подумал он.
— Ты прав, — сказал он резко, — я всего лишь старая развалина, и нечего мне болтать об этой войне — я в ней все равно не участвую. Когда ты уезжаешь?
— Поездом в шестнадцать тридцать, — ответил Вайс.
— Сегодняшним поездом? Но тогда что ты здесь делаешь? Иди быстрей домой, к жене. Тебе нужны деньги?
— Сейчас нет, благодарю.
— Иди. Пришлешь ко мне свою жену, я все с ней улажу. Иди, иди. Прощай.
Он открыл дверь и вытолкнул его. Вайс кланялся и бормотал невнятные слова благодарности. Бирненшатц через плечо Вайса заметил человека, сидевшего в приемной со шляпой на коленях. Он узнал Шалома и нахмурился: он не любил, когда просителей заставляли ждать.
— Заходите, — сказал он. — Вы давно ждете?
— С полчасика, — улыбаясь, кротко ответил Шалом. — Но что такое полчасика? Вы так заняты. А у меня так много времени. Что я делаю с утра до вечера? Жду. Жить в изгнании — это непрестанное ожидание, разве не так?
— Входите, — быстро сказал Бирненшатц. — Входите. Следовало меня предупредить.
Шалом вошел, он улыбался и кланялся. Бирненшатц вошел следом и закрыл дверь. Он прекрасно узнал Шалома: «Он был кем-то там в баварском профсоюзном движении». Шалом время от времени заходил, брал у него две — три тысячи франков и исчезал на несколько недель.
— Пожалуйста, сигару.
— Я не курю, — сказал Шалом, делая нырок вперед. Бирненшатц взял сигару, рассеянно покрутил ее между пальцами, потом снова положил в коробку.
— Ну как? — спросил он. — Ваши дела улаживаются? Шалом искал глазами стул.
— Садитесь! Садитесь! — любезно предложил Бирненшатц.
Нет. Шалом не хотел садиться. Он подошел к стулу и поставил на него свой портфель, чтобы было удобнее, затем, повернувшись к Бирненшатцу, издал долгий мелодичный стон:
— А-а-а! Ничего не улаживается. Нехорошо, когда человек живет в чужой стране, его с трудом переносят; его попрекают куском хлеба, а тут еще это недоверие к нам, типично французское недоверие. Когда вернусь в Вену, вот какое впечатление я сохраню о Франции: темная лестница, по которой с трудом поднимаешься, кнопка звонка, которую нажимаешь, дверь, которая наполовину отворяется: «Что вам нужно?» и тут же закрывается. Полиция, мэрия, очередь в префектуру. В сущности, это естественно, мы у них в гостях. Но присмотритесь внимательно: нас могли бы заставить работать: я хочу всего-навсего быть полезным. Но чтобы найти место, нужна рабочая карточка, а чтобы получить рабочую карточку, нужно где-то работать. Как бы я ни старался, мне не удается зарабатывать себе на жизнь. И это самое невыносимое: быть обузой для других. Особенно когда они так жестоко дают это почувствовать. А сколько потерянного времени: я начал писать мемуары, это принесло бы мне немного денег. Но каждый день столько хлопот, что пришлось все это забросить.
Он был совсем маленький, юркий, он поставил портфель на стул, а его освободившиеся руки так и порхали вокруг пунцовых ушей. «До чего же у него еврейский вид». Бирненшатц небрежно подошел к зеркалу и бросил на себя быстрый взгляд: метр восемьдесят роста, сломанный нос, под очками — лицо американского боксера; нет, нет, мы не одной породы. Но он не смел посмотреть на Ша-лома, он чувствовал себя опороченным. «Хоть бы он ушел! Если б он сейчас же ушел!» Но рассчитывать на это не приходилось. Только продолжительностью своих визитов и жизнерадостной живостью своих разговоров Шалом в собственных глазах отличался от простого нищего. «Мне нужно что-то говорить», — подумал Бирненшатц. Шалом имел на это право. Он имел право на три тысячи франков и пятнадцать минут разговора. Бирненшатц присел на край письменного стола. Правой рукой он поигрывал портсигаром в кармане пиджака.
— Французы черствые люди, — сказал Шалом. Его голос пророчески взмывал и опускался, но в вылинявших глазах подрагивал оживленный огонек. — Черствые люди. С их точки зрения, иностранец в принципе подозрителен, а то и виновен.
«Он говорит со мной так, будто я не француз. Черт возьми: да, я еврей, польский еврей, прибывший во Францию 19 июля 1910 года, никто об этом здесь не помнит, но сам-то он этого не забыл. Еврей, которому повезло». Он повернулся к Шалому и с раздражением посмотрел на него. Шалом немного потупил голову и из почтительности показывал ему лоб, но при этом смотрел из-под выгнутых бровей прямо ему в лицо. Он не сводил с него глаз, и эти большие бесцветные глаза видели в нем еврея. Два еврея в уединении кабинета на улице Катр-Септамбр, два сообщника; а вокруг них, на улицах, в других домах никого, кроме французов. Два еврея, высокий еврей, который преуспел, и маленький худосочный еврейчик, которому не повезло. Ни дать ни взять — Лорел и Харди[24].
— Это черствые люди! — повторил Шалом. — Безжалостные люди!
Бирненшатц резко вздернул плечи.
— Нужно поставить себя на… их место, — сухо заметил Бирненшатц, он не смог выговорить: «на наше место», — знаете, сколько иностранцев осело во Франции с 1934 года?
— Знаю, — сказал Шалом, — знаю. И по-моему, это большая честь для Франции. Но что она делает, чтобы ее заслужить? Смотрите: какие-то молодчики прочесывают Латинский квартал, и если кто-то похож на еврея, они набрасываются на него с кулаками.
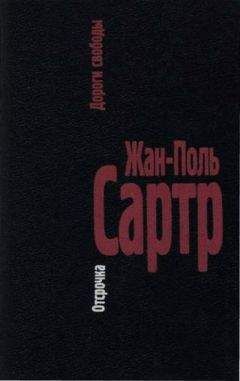

![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)

