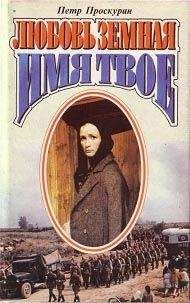— Я знаю, Коля. Таня мне сказала, я рад за вас обоих, — остановил его Лапин, с излишней старательностью пережевывая слова, и это новое обстоятельство поразило, испугало Николая, раньше он этого не замечал. — Вздор, вздор, — продолжал Лапин. — Любите ее. Я избаловал ее, но сердце у нее верное. Она хороший человек, будет вам надежным товарищем… она с вами счастлива. Берегите ее, Коля. Со мной она совсем измучилась… я ее вечером еле-еле уговорил пойти отдохнуть…
— Ростислав Сергеевич, и мне она дорога, — сказал Николай, и от этой ничем не прикрытой обнаженности ему стало как-то неуютно.
— Впрочем, Коля, я не для того хотел видеть тебя. Об этом мы еще успеем, — по остановившимся, переставшим замечать что-либо вне себя, построжавшим глазам Лапина Николай понял, что произошла какая-то перемена, Лапин отдалился сейчас и от него, это было уже то состояние его души, когда больше никто не нужен, никто не интересует; человек действительно подобрался к самой своей вершине и в предчувствии непостижимой крутизны обратного движения ослепительно одинок. Но ослепительно, вероятно, для других, сам он этого не замечает, потому что сам он находится в это время в естественном состоянии. Николай не знал, что делать; оглянувшись, он увидел Грачевского с его цепкими глазами; Грачевский печально кивнул ему. «Зачем он здесь?» — с мучительной болезненностью подумал Николай, не меняя выражения лица; угадывая, что ему без обиняков напоминают, что он здесь не нужен и даже неприятен, Грачевский шагнул вперед, молча сжал плечо Николая.
— Какая утрата, какая утрата, — тепло прошептал он в ухо Николаю. — Ты это вряд ли поймешь, ты слишком ко всему привык. Я пойду, не хочу мешать.
— Отчего же не пойму, ты же знаешь, что я все понимающий дурак, — резко отстранился Николай, освобождаясь от чужого, неприятного прикосновения, и Лапин слабо шевельнул худыми, зажелклыми пальцами, еще больше оттененными крахмальной белизной простыни.
— Все идите, — попросил он. — Ты, Коля, останься…
Николай заметил невольное, порывистое движение Грачевского и его слегка напрягшийся рот, но тут же, пересиливая себя, Грачевский шагнул к двери, ступая на носки, и его высокая, стройная фигура оттого стала еще красивее. Николай дождался, пока дверь палаты закроется; по знаку Лапина он взял стул, поставил его так, чтобы ясно и полно видеть большое, кажущееся утомленным лицо больного, хотя он и знал, что ему будет трудно от этого. И тотчас глаза Лапина поразили его каким-то своим пристальным, сосредоточенным выражением, концентрацией теплоты.
— Садись, садись, Коля, — потребовал он нетерпеливо. — Прожил вот жизнь, бился над загадками, ни одной не разрешил, ах, бог ты мой, — сказал он, знаком останавливая хотевшего возразить Николая. — Не надо, мне сейчас ничего не надо. Давай о деле. Как продвигается разработка второй серии?
— Почти закончено. Все ваши идеи, Ростислав Сергеевич, подтверждаются, теперь дело за практикой. Стропов со своей шайкой иначе ведь все равно не успокоится.
— Ну, Коля, — взглянул на него Лапин, — зачем же так грубо, по-мужичьи? Я знаю одно — в науке свои законы. Сильнее противник, да если он не один, много их, поиск плодотворнее.
— Вы просто интеллигент, Ростислав Сергеевич, — прищурился Николай. — По сути-то я прав, вы знаете это. Сколько такие кхекающие старички с высушенными розгами давят талантливого! Нового! Как они дружно встали против криогеники! Американцы почему смогли добраться до Луны? Очень просто, вспомнили наконец известную идею Циолковского: жидкий водород — топливо, жидкий кислород-окислитель, криогенная ракета! Просто? Просто! Пришлось затратить уйму времени, доказывать, доказывать…
— Не горячись, Коля, — попросил Лапин.
— Не горячись, не горячись! А жизнь идет! Сколько времени приходится расходовать впустую!
— Еще никогда никому не удавалось обмануть природу, Коля. — Лапин помедлил, словно прислушиваясь к тому, что было где-то в нем глубоко-глубоко. — Всякий, кто хотел сделать это, всегда был жестоко наказан. Вот ты смотришь… ты не поверишь, молод, будешь жить по-своему. Оно одолело меня… За счет перегрузок я думал пробежать отмеренное быстрее да еще прихватить лишнего. Да, да, Коля, за счет перегрузок. Но природу не перехитришь, нет… Кто-то безжалостный ведет свой отсчет и никогда не ошибается. Вот так… Не скидывает нам за нашу быстроту, за молниеносность решений, за то, что мы отказываемся от всего быстрее, чем мы сами рассчитываем. Время каждому отпущено на все про все строго по мере…
— Ростислав Сергеевич…
— Не перебивай, — остановил Лапин. — Ах, Коля, Коля, как молодость не умеет слушать! Я хотел тебе сказать о самом серьезном, вот и слушай. Все последние годы я был пуст, только делал вид, что я такой же, как все… А на самом деле я был совершенно пуст. Все ушло сюда, — он слепо пошевелил руками в направлении к голове, — в мозг! в мозг! Коля, модель повторяется, законы ее одинаковы для малого и большого… а природа действительно не терпит перегрузок, ох, как она еще отомстит за себя! Опустошены недра, отравлена атмосфера, на месте сведенных лесов песчаные смерчи, вторжение в ионосферу…
— Таким вас я еще не знал…
— Как-то один малограмотный доктор наук говорил мне, что компромиссы тоже входят в жизнь, Коля. Пожалуй, в данном конкретном случае я с ним согласен… Вот лежу, смотрю на тебя, слушаю и думаю над загадкой: что же такое есть человек?
— Не знаю, Ростислав Сергеевич, видимо, человек то, что сосредоточивает в себе нечто творческое…
— Ну, творит и природа. — Лапин слегка прикрыл глаза веками, но от этого его взгляд стал лишь острее. — Ты знаешь, и космос творит непрерывно, все вокруг нас есть творчество огромных, не подвластных воображению сил… А вот человек — что он такое?
— Продукт? — спросил Николай. — Тех же стихий творчества? Вполне возможно, вы правы…
— Ты талантливый человек, Коля, тебе неведомо чувство страха, — сказал Лапин. — Я тебе мало помогал, мог бы больше, но я иногда любовался тобой… Бойся своего таланта, Коля… А впрочем, что я говорю? Не слушай меня, именно этот горький опыт старости бесполезен.
— Почему?
— Не знаю. Талант часто и разрушителен… По эамыслу это, очевидно, то, что должно перегородить путь к пропасти, а в сущности… в сущности это то, что иногда расширяет, делает этот путь удобнее. Не смотри на меня так, я серьезно…
— Вы жалеете, что прожили именно так, а не иначе? — почти с раздражением спросил Николай.
— Да, жалею.
— Почему?
— Я дал человечеству несколько серьезных вещей, оно не умеет с ними обращаться, дорогое наше человечество… вот что меня мучает. Ты же знаешь, достижения науки секретом долго не бывают, не могут быть…
— Это уже следствие…
— Человечество слишком самонадеянно, оно не обладает мудростью творящего космоса… Творит избирательно, только ради себя и во имя себя. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду. Талант вскрывает закономерность и понимает ее как закономерность, но все его открытия используются далеко ведь не на благо самого человечества. Сколько еще зла в мире, и здесь талант бессилен и даже опасен. Он отдает в руки несмышленого ребенка пистолет… Это же интересно: стрелять, стрелять, стрелять, когда захочешь, по собственному желанию… Человечество развивается медленнее, чем наука. Был бы я бог, я бы не дал классовому обществу атомную бомбу, да и многое другое.
— А другой путь есть? — спросил Николай с усиливающимся раздражением.
— Пожалуй, да, есть, отчего ему не быть? Не один, возможно, — сказал Лапин. — Не надо сердиться, Коля, — попросил он, — я понимаю, вот, сам прошел, сам испытал, наслаждался, теперь же — проповедь обратного, как бы запрет… А впрочем, не нам с тобой менять законы бытия.
— Не надо, — попросил внезапно Николай, неловко, стараясь не торопиться и все же торопясь, расстегнул ворот рубашки. — Не надо так холодно, Ростислав Сергеевич… Вы же сейчас другой, зачем же это — такое чужое, не ваше?.. Ну зачем?
Все дальнейшее произошло как-то просто, тихо, естественно, но запомнилось ярко, и лишь потом, много дней спустя, Николай не мог вспоминать и думать об этом без содрогания, без какого-то перехватывающего горло чувства жалости и обиды, что прозрение пришло слишком поздно.
— Спасибо вам, учитель, — сказал он, ощущая в горле трудный ком, и легкая, сухая рука опустилась ему на голову; он понял, что его услышали, и ему, почти сорокалетнему мужчине, доктору технических наук, дважды лауреату, патенты на изобретения которого покупают самые передовые в науке страны, захотелось расплакаться так отчаянно, как он плакал лишь однажды в детстве; он не помнил причины тех далеких слез, но он точно знал, что они были, он даже испытывал сейчас особое, зудящее состояние сердца, и ему не было стыдно, когда по лицу у него потекло легкое, свободное, облегчающее тепло.