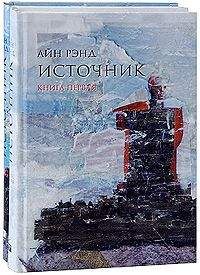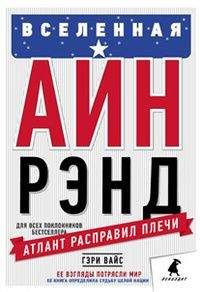— Да.
— И всё же построил для нас этот дом.
— Да.
— Мне только хотелось узнать. — Он повернулся, чтобы уйти.
— Чёрт бы тебя побрал! — закричала она. — Если ты можешь это так принять, то какое ты имел право стать тем, кем стал!
— Поэтому я и принимаю это.
Он вышел. И тихо прикрыл за собой дверь.
Вечером того дня Гай Франкон позвонил Доминик. Оставив дела, он жил один в своём загородном имении близ каменоломни. В тот день она не отвечала на звонки, но взяла трубку, когда горничная сказала, что звонит мистер Франкон. Она ожидала бури, но услышала мягкий голос:
— Здравствуй, Доминик.
— Здравствуй, отец.
— Ты собираешься оставить Винанда?
— Да.
— Не надо переезжать в город. Нет необходимости. Не перегни палку. Приезжай ко мне. Поживёшь до процесса по делу Кортландта.
Его тон, прозвучавшая в его голосе твёрдая и простая нота, почти счастливая, заставили её ответить после небольшой паузы:
— Хорошо, отец. — Это было сказано девочкой, дочерью, утомлённо-доверчивой, обрадованной и печальной. — Я приеду за полночь. Приготовь мне стакан молока и пару сандвичей.
— Не гони машину. Дороги не очень-то хороши.
Гай Франкон встретил её в дверях. Оба улыбались, она поняла, что не будет ни расспросов, ни упрёков. Он провёл её в маленькую комнату, где поставил еду на столике у окна, распахнутого в темноту лужайки. Пахло травой, свечами и жасмином в серебряной вазе.
Она сидела, держа в руке холодный стакан, он расположился напротив, мирно жуя свой сандвич.
— Хочешь поговорить, отец?
— Нет. Хочу, чтобы ты допила молоко и отправилась отдыхать.
— Хорошо.
Он взял маслину, насаженную на цветную шпажку, и стал задумчиво рассматривать её, потом поднял взгляд на дочь:
— Послушай, Доминик. Не буду и пытаться понять, но мне ясно, что ты поступила правильно. На сей раз это тот мужчина, который тебе нужен.
— Да, отец.
— Вот почему я рад.
Она кивнула.
— Передай мистеру Рорку, что он может приезжать сюда, когда захочет.
Она улыбнулась:
— Передать кому, отец?
— Передай… Говарду.
Её рука лежала на столе, её голова склонилась на руку. Он смотрел на её волосы, золотистые в свете свечей. Она сказала, потому что так было легче заглушить тревогу:
— Не давай мне свалиться и уснуть здесь. Я устала.
Он ответил:
— Его оправдают, Доминик.
Каждый день по распоряжению Винанда в его кабинет доставляли всё нью-йоркские газеты. Он был в курсе всего, о чём писали и шептались в городе. Все понимали, что история подстроена самой Доминик: не будет же жена мультимиллионера в подобных обстоятельствах сообщать о пропаже кольца в пять тысяч долларов, но это не помешало принимать историю, как её подали. Самые оскорбительные домыслы печатались в «Знамени».
Альва Скаррет отдавал все силы и страсть этой кампании. Он пустился в неё как в крестовый поход, с жаром преданного вассала, считая, что может искупить прошлое, когда он, возможно, был недостаточно лоялен к Винанду. Он восстанавливал честь его имени, всячески ухищрялся представить Винанда жертвой великой любви к распущенной женщине. Именно Доминик вынудила мужа поддержать безнравственное дело вопреки его желанию, она чуть не погубила его газету, положение в обществе, репутацию, достижения всей его жизни — и всё ради любовника. Скаррет заклинал читателей понять и простить своего патрона, фигуру трагическую, но оправдываемую жертвенной любовью. Расчёт строился на контрасте: каждый грязный эпитет, которым награждали Доминик, оборачивался сочувствием к Винанду, и это подхлёстывало Скаррета. Приём сработал, общественность откликалась, особенно пожилые читательницы. Постепенно, с трудом газета становилась на ноги.
Стали приходить письма с выражением глубокого сочувствия, читатели не стеснялись в выражениях, осуждая Доминик, вплоть до нецензурных слов.
— Как в былые дни, Гейл, — торжествовал Скаррет, — совсем как прежде! — Он кучей вываливал письма на стол шефа.
Винанд одиноко сидел в кабинете, просматривая корреспонденцию. Скаррет и не подозревал, какие страдания приносили Гейлу Винанду эти груды писем. Винанд заставлял себя читать каждое письмо. Когда-то он так старался оградить Доминик от газет…
Встречаясь с Винандом, Скаррет заглядывал ему в глаза с мольбой и надеждой, как усердный ученик, ожидающий похвалы учителя за хорошо усвоенный урок. Винанд молчал. Раз Скаррет отважился:
— Неплохо сработано, Гейл?
— Да.
— Как ты думаешь, что ещё можно из этого выжать?
— Это твоя забота, Альва.
— Безусловно, она всему причина, Гейл. Задолго до всей этой кутерьмы, когда ты женился на ней, у меня были опасения. С этого и началось. Помнишь, ты запретил нам писать о свадьбе. Это был знак. Она подорвала «Знамя». Но будь я проклят, если не восстановлю всё на её костях. Всё как раньше. Наше «Знамя».
— Да.
— Гейл, что ещё предпринять?
— Всё что хочешь, Альва.
Ветка дерева заглядывала в открытое окно. Листья шевелились на фоне неба — посланцы солнца, лета и неисчерпаемо плодородной земли. Доминик понимала мир как вместилище жизни. Винанд видел жизнь в руках, сгибающих ветвь дерева. Листья касались шпилей и башен на линии горизонта далеко за рекой. Небоскрёбы стояли в потоках солнечного света, выбеленные расстоянием и жарой.
Зал суда был заполнен толпой, пришедшей на процесс Говарда Рорка. Рорк сидел за столом защиты. Он внимательно слушал.
Доминик устроилась в третьем ряду среди зрителей. Казалось, что она улыбается. Но это была не улыбка. Она смотрела на листья в окне.
Гейл Винанд сел в конце зала. Он пришёл один, когда зал был уже полон. Он не замечал любопытствующих взглядов и вспышек фотокамер, сопровождавших его появление. На минуту он задержался в проходе, рассматривая зал. На нём был серый летний костюм и летняя шляпа с полями, загнутыми вверх с одной стороны. Его взгляд задержался на Доминик не дольше, чем на других людях в зале. Усевшись, он посмотрел на Рорка. С момента его появления Рорк всё время поворачивал голову, чтобы взглянуть на него, но Винанд всякий раз отворачивался.
— Мотивы этого дела, как мы намерены доказать, — говорил во вступительном слове к присяжным прокурор, — лежат за пределами нормальных человеческих эмоций. Большинству из нас они покажутся чудовищными и непостижимыми.
Доминик сидела рядом с Мэллори, Хэллером, Лансингом, Энрайтом, Майком… и Гаем Франконом, что вызвало неодобрение его друзей. Через проход, в другой части зала, разместились знаменитости, образуя собой нечто вроде кометы, крошечной головкой которой был Эллсворт Тухи, сидевший впереди всех, а за ним сквозь всю толпу тянулся яркий шлейф известнейших особ: Лойс Кук, Гордон Л. Прескотт, Гэс Уэбб, Ланселот Клоуки, Айк, Жюль Фауглер, Салли Брент, Гомер Слоттерн, Митчел Лейтон.
— Подобно динамиту, разнёсшему здание, мотивы, которыми руководствовался этот человек, подорвали в его душе всё человеческое. Господа присяжные, здесь мы имеем дело с самым опасным взрывчатым веществом на земле — эгоизмом!
На стульях, подоконниках, в проходах, у стен люди были плотно спрессованы в монолитную массу, из которой выступали бледные овалы лиц. Масса различалась только лицами — несхожими, одинокими. За каждым из них стояли годы жизни, усилия, надежды и попытки — честные или бесчестные, но попытки. И это наложило на всех единый отпечаток — отпечаток страдания, являвшего себя и в злорадной усмешке, и в покорной тихой улыбке, и в сжатых губах сомневающегося в себе достоинства.
— В наше время, когда мир осаждают гигантские проблемы, когда человечество ищет ответ на вопрос, как обеспечить своё выживание, этот человек настолько озабочен таким неосязаемым, призрачным понятием, как субъективное художественное пристрастие, так непомерно раздул его значение, что позволил ему стать своей единственной страстью, и в конечном счёте оно стало причиной его преступления против общества.
Люди явились на сенсационный процесс, чтобы увидеть знаменитостей, показать себя, получить пищу для пересудов и сплетен, убить время. Потом они вернутся к надоевшей работе, надоевшим жёнам и детям, надоевшим друзьям, надоевшим домам, вечерним нарядам, коктейлям, кино, к тайным страданиям, оставленным надеждам, неосуществлённым желаниям, подавленным страстям, вернутся к отчаянным усилиям не думать, не говорить, забыть, уступить и покориться. Но каждый хранил в памяти незабываемый образ — тихое, безмятежное утро, обрывок услышанной однажды мелодии, незнакомое лицо, мимолётно мелькнувшее в автобусе. Каждый помнил тот миг, когда он жил и ощущал, что может жить иначе. И другие мгновения — бессонной ночью, в дождливый полдень, в церкви, на пустынной улице в час заката каждый хоть раз спрашивал себя, почему в мире столько страдания и безобразия. Тогда они не пытались найти ответ и продолжали жить так, будто в ответе не было необходимости. Но каждый помнил миг, когда перед ним жёстко и неумолимо встала потребность в ответе.