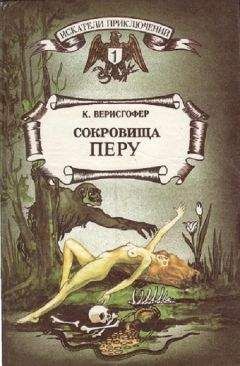А когда повернулся, чтобы уйти, то почувствовал сквозь плащ легкое прикосновение ее тонкой руки. Сердце мое замерло, но я сделал вид, что ничего не замечаю. Рука соскользнула с мокрого плаща. И я, коротко кивнув, вышел.
3
Папа и Юдит были близнецами. И вместе пережили лагерь. Папа несколько раз навещал сестру в Чикаго, но ни к чему хорошему эти визиты не приводили, он возвращался молчаливый и никому ничего не рассказывал. А Юдит вообще приехала к нам впервые.
Папа не захотел эмигрировать, остался в Голландии, потому что надеялся разыскать остальных членов семьи. Папа у нас — мечтатель, верящий в чудеса, и, хотя он так никого и не нашел (а теперь уж и искать некого), все-таки не решается переехать, хотя родная сестра предлагает ему работу в своей — постоянно расширяющейся — сети магазинов игрушек. Папа говорит, что Голландия больше подходит ему по размеру. Наверное, он прав.
Только теперь, когда приехала Юдит, мы поняли, что у него была и другая причина. В папиных рассказах о лагере Юдит выглядела воплощением силы и стойкости, но не прошло и двух дней, как я понял, что решение не покидать Голландию он принял из чувства самосохранения.
Несомненно, ему нравилось рассказывать, как энергичная Юдит еще в 45-м встретила Бенно, прирожденного бизнесмена, и уехала с ним, — это помогало объяснить, почему мы не так богаты, как они.
В папиных рассказах Юдит чудесным образом превращалась в товарища — которым она, конечно, тоже была, особенно в той ситуации, — но нас всегда занимал вопрос: куда бы делись ее грубость и кипучая энергия, если бы она не попала в лагерь. Добрые чувства Юдит прятала глубоко-глубоко, теперь это стало ясно. Но папа до сих пор считал ее несомненным лидером.
— Привет, Сим, — крикнула она, крепко обняла отца и без дальнейших церемоний вступила в дом.
Бенно следовал за ней, добродушно улыбаясь и слюняво целуя всех, кто попадался на пути. Когда-то он был симпатичным парнем с большими, добрыми и умными глазами и тонкими, немного индейскими чертами лица — я видел снимки. Но теперь постарел, расплылся и приобрел черты пожилой женщины. Юдит была похожа на папу, но потоньше и ростом пониже; она коротко стригла темные с проседью волосы, носила очки и, несмотря на крупные черные серьги, напоминала переодетого мальчишку, так что вместе они выглядели как мать и сын.
Однако власть Юдит над папой была не самым ужасным в этой долгожданной встрече.
Всем было известно, что в папином присутствии любые трудности разрешаются сами собой. Люди охотно собирались вокруг него, включались в общий разговор, и атмосфера делалась теплой и приятной. Но стоило появиться Юдит, как все его прекрасные качества исчезли, словно задавленные ее неистовым темпераментом. Едва они поздоровались друг с другом, нас окатило ледяным холодом. Папа, мама, Лана и я замерли у дверей, глядя им вслед, одинокие и потерянные, словно явились незваными в незнакомый дом.
Мы прошли внутрь, и гостиная, где я вырос, показалась мне чужой. Я надеялся, что Юдит не заметит старинные картинки, которые папе удалось когда-то забрать из родительского дома.
Но она направилась прямо к ним.
— Симон, черт побери, почему ты мне ничего о них не сказал?
И разрыдалась. Этого никто не ожидал.
Папа стоял молча, опустив руки. И, казалось, терпеливо ждал, когда все кончится. Потом тоже заплакал: слезы тихо потекли по его лицу. Началась неделя, за которую нам предстояло привыкнуть и к этому. Потом он взял руку Юдит и похлопал ее ладонью по своей.
Они сели на диван и битый час не могли заговорить. Словно невидимая стена отгородила их от остального мира, как только они оказались рядом, — я никогда еще не видел папу в таком состоянии.
Юдит закурила свою первую сигарету. Мама пыталась увести нас — помочь подать кофе с пирожными, Бенно стал рассказывать мне и Лане, как они долетели, но я едва слышал, что он говорит.
А я-то, дурак, считал, что у папы тяжелый характер, потому что он не хотел рассказывать о прошлом. Зато Юдит, кажется, только об этом и говорила:
— Сим, ты чего скребешь голову — у тебя вши не завелись? — и, обращаясь к нам: — В лагере, если подхватишь вшей, запросто можно заразиться тифом. — Она хохочет громким, хриплым, прокуренным голосом. — А вы об этом и не слыхали, да? Ну, вы-то можете каждый день мыться в душе, до блеска надраиваться мочалкой, у вас они не заведутся. А в лагере даже слово «душ» можно забыть. Так что там было чуточку опасно.
Казалось, она пытается загнать нас своим смехом в душ и отскрести дочиста.
— Я едва не сдохла, как и все остальные, видел бы ты, на кого я была похожа, — ревела она на своем странном, старомодном голландском, украшенном раскатистым американским «р». И никакой gêne[2], из-за которой папины рассказы об их прошлом невозможно было слушать.
Я знал, что тиф — болезнь легких. Почему тогда она столько курила? И зачем так орала?
Детей у нее не было. Вообще никогда. Это тоже было как-то связано с лагерем. Но вот что самое странное: они расстались тридцать пять лет назад, с тех пор почти совсем не виделись и все эти годы оба изо всех сил старались забыть прошлое и преодолеть его последствия работой, браком, детьми. Оба добились удачи и даже счастья — до известной степени.
А теперь Юдит, похоже, была озабочена прежде всего тем, чтобы выложить перед братом как можно больше воспоминаний, словно, вывернув на пол огромный мешок мусора, увлеченно рылась в нем и не могла остановиться, пока не докопается до чего-то особенно мерзкого. Всякая мелочь вытаскивалась из кучи и внимательно изучалась. В первые несколько дней нам не удалось ничего узнать о ее жизни в Чикаго. Юдит говорила только о войне.
Кроме того, она с невероятной энергией пыталась взять на себя домашние заботы: как только Юдит появилась в доме, мама была выдворена из кухни. Родители поселили Бенно и Юдит на первом этаже, в просторной и светлой спальне, где все было приспособлено для нужд гостей. Но в шкафу их одежда не поместилась, поэтому Юдит протянула через всю комнату веревку и развесила вещи на ней.
Папа рассказывал, что в Чикаго они живут в роскошном особняке, так что наше жилище должно было казаться им чем-то вроде однокомнатной квартиры где-нибудь в восточноевропейской стране. И Юдит, въехав в Европу, сознательно отрешилась от богатств Америки, чтобы посвятить себя благородной цели выживания в этих ужасных условиях.
Она, к примеру, перестирала все наши вещи — я догадался об этом, потому что трусы и рубашки оказались сложенными не так, как их обычно складывала мама. Все стиралось дважды, с порошком и содой.
— Тинтье, позволь мне, я так люблю стирать!
Она вымыла все ванные в доме — сперва свою, а через несколько дней и остальные, — как раз перед приходом уборщицы.
Вечером того, первого, дня мы с Ланой услышали, как ссорятся в своей спальне родители, и поняли, что покой в доме, годами охранявшийся мамой, был разрушен благодаря Юдит всего за несколько часов.
Сам я немедленно сбежал бы, напился до бесчувствия в моем любимом баре и остался ночевать на чердаке, который снимал на юге Амстердама. Но я не мог позволить им остаться наедине и должен был сохранять трезвость. В первую ночь я не спал вовсе и до самого конца недели почти не смыкал глаз. Всю эту неделю я оставался дома, потому что чувствовал себя обязанным охранять родителей. Бог ведает, от кого. Может быть, от них самих?
4
В воскресенье полил дождь, и Юдит предложила пойти в Дом Анны Франк. Из всех возможных экскурсий ее устраивала только эта. Потому что, говорила Юдит (превратившаяся за прошедшие годы в настоящую американку), всякий, кто попал в Голландию, обязан там побывать. Такая экскурсия, считала она, полезна и с познавательной точки зрения.
— Симон Липшиц, почему ты не просвещаешь детей? Они у тебя ничего не знают!
Папа молча кивал головой и снова лил слезы.
В свое оправдание он мог бы сказать только — что не занимался нашим воспитанием. Мы с Ланой для него словно бы не существовали.
Юдит, напротив, обращалась к нам постоянно. Не потому ли, что ей нужна была публика? Она непрерывно что-то рассказывала. Обучала, как мать, терпеливо помогающая ребенку постигать новые слова.
Лагерь. Снова и снова лагерь. Голод.
— Такого слова — голод — не существовало, да, Сим? Была боль, которую можно утолить только едой.
Папа молча кивал, а я вспоминал, как он беспокоится, даже сердится, едва на столе появляется еда.
Юдит вспоминала, как важна была хорошая обувь. Крематорий. Снова и снова — как отбирали тех, кто должен умереть. Снова и снова — как можно было спастись.
Она замолкала — ненадолго, — когда потоком, как вода сквозь дырявую крышу, прорывались слезы. Но ее истории против воли захватывали меня, я жадно впитывал все, что она говорила, все, о чем, сам того не понимая, давно хотел знать. И эти слезы.