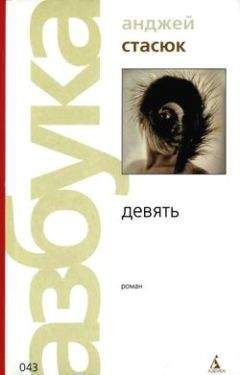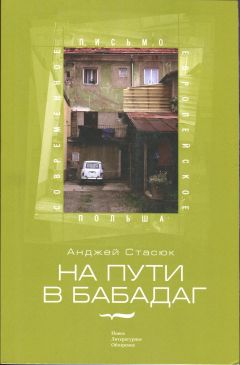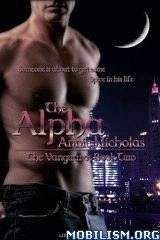Мост кончился, снова пошли дома. Каждый стоял на своем, огороженный сеткой, ее квадратные ячейки тиражировали в бесконечность квадратную форму зданий, окон и площадей. На остановке вошли три человека. Автобус дернулся, толстая женщина с билетом в руке качнулась и навалилась ему на плечо. Павел почувствовал ее мягкий зад и запах духов.
По правой стороне когда-то лежали поля. Над рекой собирались облака, поднимались вверх и бежали по небу, таща за собой тени по жнивью, где осенью паслись коровы. Улица была узкая, машины ехали медленно. Горизонт был похож на аппликацию из обрывков зеленой бумаги. Как-то он поехал в ту сторону на велосипеде. Охристые тропинки вились среди ракит. Он увидел девочку-подростка в красном купальнике. Сидела себе и сикала. Павел даже заметил темное пятно на песке. Завидев его, девчонка не торопясь выпрямилась и начала медленно натягивать трусы.
Теперь ряд рекламных щитов отделял шоссе от океана серых трав, выросших на месте огородов. На горизонте стояли серые многоэтажки, скорее, свисали с неба, как бурый дырявый занавес: облака и стены одного цвета.
«П… белобрысая», – подумал Павел. Он хорошо помнил, как красная ткань ползла вверх, и почти слышал тихий шелест, с которым она скользила по светлым волосам. А потом все исчезло, припечатанное щелчком резинки, когда девчонка отпустила ее большими пальцами и встала руки в боки. Он нажал на педали, чувствуя на лице горячий ветер. Огромные щиты отгораживали его от этих воспоминаний.
Кто-то остановился возле его места:
– Что ж это вдруг сегодня, – на автобусе?
Павел поднял голову, узнал говорящего и ответил:
– Та-а, иногда полезно.
Он стоял у окна и смотрел на коричневое здание управления железной дороги. Здесь от снега не осталось и следа. Мостовая и тротуар мокрые. Колеса автомобилей с шипением катились по асфальту. Фасад за металлической решеткой, казалось, ушел в землю. «Тимпан», вспомнил он словцо из школы, а потом, тоже откуда-то издалека, к нему вернулось словосочетание «Бранденбургские ворота» и еще другие слова и образы. Так прошло минуты три. Он перевел взгляд на церковь. Черные баллоны, оплетенные сеткой из ветвей без листьев.
«Кой х… туда ходит, – подумал он. – Тут русские, там немцы, тут немцы, там русские», – крутилось у него в голове. На Вильнюсский вокзал прибыла электричка, толпа текла по зебре на красный свет, прямо в горло подземного перехода, и выливалась с противоположной стороны, у почты: трамваи откусывали по кусочку от ее подвижной туши, проглатывали и увозили в город, на все четыре стороны.
Хуже всего тем, подумал Павел, кому надо ехать по магистрали Восток – Запад, потому что им приходится тащиться до Зомбковской и ловить битком набитый, просевший от тяжести сто тридцать восьмой, который повезет их к огромному газохранилищу, снившемуся ему по ночам, – ему снилось, как чудовищные резервуары лопаются, взрываются и огонь разливается прямо по земле, оголяя ее, очищая от всего – зарослей, трав и стихийных свалок на Ольшняке,[1] вытекает из железнодорожных тоннелей на Козьей Горке, и от депо остаются голые скелеты цехов и вагонов с рассыпающимися жилами рельсов, «Камчатка»[2] горит, как карточный домик, и все воровки и отравительницы, прекрасные и недостижимые, сплавляются в единое целое с металлическими остовами своих кроватей. Этот сон снился ему множество раз.
На углу у почты, около Славика Четвертого,[3] застыли три цыганки. Такие яркие, что даже утренний свет ничего не мог с ними поделать. Выждав, когда толпа поредеет, цыганки спустились под землю. Он поискал их взглядом, но они наверх не вышли. Двадцать первый сверкнул снопом искр и помчался в южную часть города. Воздух со стоном расступался перед ним, а женщина с огромной сумкой в красно-голубые полосы едва успела отскочить в сторону. Павел попытался вспомнить, есть ли в Москве трамваи. Нарисовал пальцем на стекле загогулину. Стекло было сухое, и на нем остался только мутный сальный след. Он отошел от окна. Заскрипел паркет под серым ковром. Павел направился на кухню. Здесь пол был сделан из широких досок и покрыт лаком. На столе остатки завтрака: две рюмки для яиц, две керамические тарелки и корзинка с черным хлебом. Одно яйцо почти не тронуто… Желток просвечивает сквозь белок, как глаз из-под бельма. К краю тарелки с недоеденными кукурузными хлопьями прилип один кусочек, Павел дотронулся до него. Он был размокший и холодный. Подцепил пальцем и лизнул. Без сахара. Попробовал молоко в другой тарелке. Сладкое, как сироп. Вернулся в прихожую. Толкнул желтую крашеную дверь, но тут же затворил ее. Вернулся в кухню, открыл шкафчик из темного дерева. Там стояли две стопки тарелок – мелкие и глубокие отдельно, остальное место занимали кофейник и супница, покрытые пылью. Еще там было три разнокалиберных чашки. Пахло влажным деревом и едой. В шкафчиках, куда редко заглядывают, всегда чувствуется застоявшийся запах несвежего хлеба. Павел закрыл дверцы и посмотрел в окно, но там все было по-прежнему. Дом напротив поблескивал мертвыми окнами.
Он вернулся в комнату и начал кружить по тому месту, где в прежние времена обычно ставили столы. На четвертом круге он сошел с дистанции, его занесло в сторону белого стеллажа. Сунув руки в карманы, он принялся рассматривать то, что лежало на полках. Разная дребедень, которая ни о чем ему не говорила. Фаянсовая танцовщица, стеклянная посудина, полная всякой хренотени, египетский сонник, китайская И-Цзин,[4] телефонная книга, четырехтомная энциклопедия, несколько аудиокассет: «Marillion», «Pet Shop Boys», английский для начинающих, Смолень с Ласковиком,[5] Кора[6] с «Маанамом»,[7] щетка для волос, рожок для обуви. Заглянул в бар и обнаружил там початую бутылку каберне, рюмки, пепельницу и отражение собственного живота в зеркале. Он захлопнул крышку, стекло задребезжало, зазвонил трамвай, задрожал пол.
Шкаф был закрыт на ключ. Без него замок не хотел открываться. Павел надавил на дверцы, пытаясь вернуть створки в прежнее положение, и дернул еще разок.
Он с трудом сунул руку в плотно спрессованную стопу постельного белья, шевеля пальцами так, точно расклеивал страницы большой, лежащей плашмя книги. «Постирал, и гладить не надо», – подумал Павел. Между этой стопой и полотенцами было свободное место, поэтому он запустил туда руку поглубже, почти по локоть, и стал водить там ею в прохладной и шершавой темноте, но ничего не нашел. На нижней полке стоял утюг. Павел подвинул его, чтобы пошарить за стопкой скатертей и льняных штор. Утюг был еще теплый. Регулятор стоял на отметке «хлопок». Павел стал рассматривать одежду. Футболки на ощупь такие мягкие, какими бывают только поношенные, многократно стиранные вещи. Зеленая, черная, красная, две белых, опять черная и на самом дне бирюзовая. Четыре пары джинсов – белые и голубые «левиса», темно-зеленые вельветовые и застиранный потертый комбинезон цвета хаки – соседствовали с теплыми спортивными анораками. У них на сгибах кое-где виднелись надписи и эмблемы. Тыльной стороной ладони Павел ощущал то выпуклую вышивку, то липкое прикосновение прорезиненных надписей. Выше лежали блузки и юбки. Он взял их и, не двигая с места, пропустил через большие пальцы, как две колоды огромных квелых карт, затем слегка раздвинул и заглянул поглубже. Сверток в газете. Павел осторожно вынул его, сел на корточки и положил находку на пол, насвистывая: «Эх раз, еще раз…» Пожелтевшая «Жиче Варшавы» рассыпалась в руках, как тоненькая облатка, лицо Ярошевича лопнуло посередине. Он поднял крышку бомбоньерки и нашел там локон светлых волос, сухую, почерневшую от времени розу и стопочку исписанных страниц. Бросил свистеть, скомкал все кое-как и сунул на место. Обрывки газет сгреб ногой под ковер.
На уровне лица находилась полка с бельем. Шероховатые чашечки лифчиков, сложенные одна в другую: черные, белые, черные, бежевые, бессмысленная конструкция, бесплотная и жесткая, две шапочки, скрепленные между собой, две жокейки без козырьков. Он прервал ненадолго свое занятие и отошел к окну. Толпа поредела, стрелки часов на башне остановились на четверти четвертого неизвестно какого дня. Павел окинул взглядом тротуары и переходы, улицу Сверчевского, Вильнюсскую, скосил глаза на Торговую, чувствуя лбом холод стекла. Сто первый проволок брюхо по рельсам и остановился перед церковью. Какой-то тип в варенке выбежал из очереди, тянущейся к киоску, и проскочил в закрывающиеся двери. Из-за угла нарисовались трое пацанов, свернули на Кирилла[8] и потопали в сторону парка. Полы их болоньевых курток развевались от ветра, как крылья: черные, коричневые и синие. Они уже успели принять, и холод был им нипочем. Павел подумал, что хотел бы быть на их месте. Еще сто метров, и они проскользнут в извилистые аллейки, безлиственные густые заросли скроют их, они затеряются там и, хоть не станут невидимками, будут в безопасности. Деревья сомкнутся над ними не хуже потолка, найдут они себе лавочку рядом со стариками, играющими в шашки, беспокойство покинет их, и небо цвета дыма будет светить им до самых сумерек, до того времени, когда, избавившись от боли и стаха, они снова ринутся во мрак, полный электрических звезд, сыплющихся из пантографов трамваев, которые бегут по улице 11 Ноября и Сталевой прямо в вифлеемскую ночь Шмулек и Таргувка,[9] и будут ждать, ждать, ждать сколько влезет, времени у них хоть пруд пруди, а у него осталось – кот наплакал.