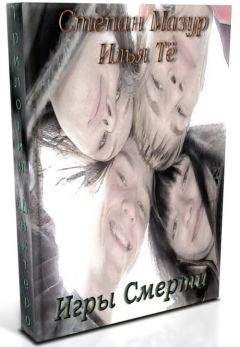Но слабость демонстрировать не хотелось, поэтому БГ так и остался висеть на мне, как вериги.
На подступах к Горбушке собрались панки. Вот кто по-настоящему был крут: разноцветные ирокезы, наколки, серьги в носах. А уж как прикинуты! И все это посреди глубокого Совка. Не представляю, как им удалось добраться сюда, обычно менты любого в рваных джинсах и с ирокезом выдергивали из толпы и сразу вели в отделение, где метелили по-черному, а потом бросали в обезьянник.
Мы пришли заранее, потому что Громов имел отношение к организации этого панковского фестиваля, и сразу пошли за сцену. Ощущение было, что я перенеслась во времени и пространстве и оказалась вдруг в Лондоне году так в 77-м. Патлатые и бритые, джинсовые, кожаные и в железе, все пьяные, с гитарами, барабанными палочками и микрофонами, музыканты активно тусовались, перетекая из гримерки в гримерку. Вокруг них было полно женщин: совсем девочек и постарше, накрашенных, надушенных и разгоряченных. Громов представил меня каким-то людям.
— Вот, познакомьтесь. Это Алиса Лебедь-Белая — начинающая журналистка. — Он наклонился ко мне и с самодовольной улыбкой сказал на ухо: — По-моему, так лучше. Нужен же тебе запоминающийся псевдоним. И потом, тебе подходит.
Я удивленно посмотрела на него: уж на кого, а на белого лебедя я похожа не была. Но Громову было уже не до меня; он отвлекся на высокого, худого как палка, с длинными черными волосами парня лет двадцати пяти.
— О, это наш художник. Он мне очень нужен. Саша, подожди! — и мой провожатый скрылся из вида.
Я еще постояла на месте какое-то время, пока не поняла, что Громов, наверное, пошел по своим организаторским делам и надо крутиться самой.
Сибирские группы старались как могли, но играли они плохо и тексты были невнятные. Зато децибелы и тестостерон зашкаливали, и мат лился со сцены сплошным потоком, вселяя радость в наши окоченевшие от совдеповского холода сердца. Панки в стоячем партере, накачанные пивом, рубились смертно.
После концерта я стояла у выхода в некоторой растерянности, не зная, что мне делать: идти одной к метро, дожидаться, Громова здесь или пойти искать его за кулисы? Но тут он вырос у меня за спиной.
— Ну, как тебе? — спросил он.
— Какие-то они слишком сырые. Играть как следует не могут, и слова по большей части дурацкие, — ответила я, старательно подбирая слова: ведь я рок-журналистка, хоть и начинающая. — И, кроме того, главный хит — «У бабушки»: «Такой прекрасной бабушки на целом свете нет,/ Она спечет оладушки,/ Она возьмет минет». Что за чушь? Так по-русски не говорят. Или она возьмет в рот, или сделает минет.
Господи! Это Совок, 88-й год, кругом царит полнейшее ханжество и пуританство. Мне 18, и я — еще девственница. Я и слов-то таких раньше вслух не произносила, а тут спокойно рассуждаю об этом с незнакомым практически мужчиной, старше меня больше чем на десять лет! Но, кажется, впечатление я на него своей раскованностью и искушенностью произвела: вижу, он искоса поглядывает на меня с любопытством.
— Н-да, с русским языком у них неувязочка вышла. Но ведь они — панки, главное — экспрессия. Тебе нравится панк? Что ты вообще слушаешь? Кроме «Аквариума», конечно…
— Да «Аквариум» вообще не моя любимая группа. Я «Звуки Му» больше всего люблю! Петя — гений!!! Я на всех их сейшенах была за последний год.
— А что ж ты тогда Гребенщикова на себе таскаешь, а не Мамонова?
— Во-первых, у меня нет фотки мамоновской, а во-вторых, его никто не знает, а БГ все знают и поэтому сильно злятся, когда видят. А если Мамонова повесить, то будут спрашивать: «А кто этот мужик?» Понимаешь, так весь эффект пропадет.
Громов начал ржать.
— Эффект… Просто ты девочка в пубертатном возрасте, которая писается и визжит при виде своего кумира. Другие — от Жени Белоусова. А вы — от Гребенщикова или Цоя. Хотя я не отменяю значения их раннего творчества и влияния на наш рок.
— Ты ничего не понимаешь. Цой — он такой…
— Конечно, не понимаю. Мне яйца мешают. У него сексуальная харизма сильная, вот и действует тебе на яичники, или где там у вас гормоны образуются. К музыке, к настоящему высказыванию вся его поза Последнего Героя отношения не имеет.
— На концертах «Битлз» или «Роллинг Стоунз» девочки тоже визжали и плакали, но это не мешает им быть самыми великими рок-группами.
— Да, но и тем и другим этот визг так надоел, что они бросили выступать и засели в студии, писать альбомы. А Цою нравится вся эта истерика…
В это время мы уже шли к его дому. Слушать какие-то суперважные альбомы, без знания которых немыслимо даже думать о том, чтобы писать о роке.
Я насупилась и замолчала. Несмотря на все мои старания казаться серьезной и крутой, на рассуждения о минете и тому подобное, меня все равно назвали маленькой безграмотной девочкой, да еще обвинили в том, что у меня есть яичники.
Громов посмотрел на меня и засмеялся.
— У, губы надула. Как маленькая… Давай очки снимем, а то у меня папа дома. Он, знаешь, профессор, античную эстетику преподает, — может испугаться.
Он наклонился, протянул руку и снял с меня очки, убрал волосы с лица.
— Полями повеяло… Свежестью… — немного наклонился ко мне, потянул носом воздух. — Погоди, чем это от тебя пахнет? Какими-то полевыми цветами. Как там у Бунина? «Веет от них красотою стыдливою/ Сердцу и взору родные они/ И говорят про давно позабытые/ Светлые дни».
Папа-профессор ничуть не удивился тому, что в 12-м часу ночи сын привел незнакомую девушку. Громов оставил меня с ним наедине, пока быстренько наводил порядок у себя в комнате, и мы очень мило поговорили. Он был очарователен в каком-то старорежимном духе. Потом я слушала «Пинк Флойд» и «Ти Рекс» на громовском старом катушечном магнитофоне. Альбомы были магнитные, на бобинах, и чтобы заправить их в аппарат, требовалось немалое умение и ловкость. Это был целый ритуал, священнодействие.
Я потеряла счет времени. Со мной почти на равных разговаривал взрослый мужчина, авторитет, можно даже сказать — легенда в своей области. У него был свой журнал — андеграундный, он организовывал подпольные рок-фестивали, его забирали в милицию, за ним охотился КГБ. Он сказал, что я похожа на лебедя и от меня пахнет фиалками, незабудками, или какие там еще есть полевые цветы. Он знает наизусть Бунина и Сида Барретта. Ему беспрерывно звонили по телефону, но он всем говорил, что занят, говорить не может, и возвращался ко мне. Голова у меня кружилась…
— А как ты доберешься до дома? Уже поздно. Метро не ходит, — вдруг спросил меня Громов.
— Ого, уже два! — я в ужасе подумала, что не позвонила домой и не предупредила маму, что задержусь. Она знала, что я в своем прикиде пошла на рок-концерт, и вот ночь, а меня все нет. Мама наверняка не спит, сходит с ума, думает, что меня забрали в милицию. Но звонить? При нем? Показывать, что я — не свободный самостоятельный человек и должна отчитываться перед родителями? Ни за что!
— Останешься у меня? — как ни в чем не бывало, по-будничному, спросил Громов. — Я постелю тебе на диване.
— Нет-нет, я поеду домой. На такси.
— Ты где живешь?
— «Красные Ворота», Земляной Вал — на Старобасманной.
— В самом центре? Это будет стоить отсюда не меньше червонца.
— Ничего, у меня есть деньги.
— Ну, смотри, как хочешь. Я тебя провожу.
За пару месяцев до моей встречи с Громовым мне позвонили из «Юности».
— Привет, — говорят, — мы из «20-й комнаты».
— Ой, — говорю я.
— Ты же нам писала? — говорят.
— Да, — отвечаю.
— Ну, вот. Мы тут всей командой читали твое письмо. Оно нам очень понравилось. Приходи к нам. Хочешь?
— Конечно, хочу!
Журнал «Юность» обладал в моих глазах некоторым романтическим ореолом, там Аксенова когда-то печатали; кроме того, «20-я комната» была чуть ли не единственным местом, где писали о роке, и писали хорошо. Я пошла в первый раз, мне понравилось, и я стала ходить туда регулярно.
В один из вечеров, когда мы сидели, трепались, гоняли чаи, вдруг резко, со стуком, распахнулась дверь и вошел редактор. Злой как собака.
— Почему бардак? Почему никто не работает? — заорал он. — Что за шум постоянный отсюда, все жалуются, что вы работать не даете! Почему посторонние в комнате? Здесь серьезный журнал, а не проходной двор! Так, все посторонние, кто не работает в журнале, милости прошу, скатертью дорога!
Народ потянулся на выход. Но я словно прилипла к столу, на котором сидела: во-первых, не люблю, когда на меня орут, а во-вторых, я так прикипела к этому месту, что посторонней себя не считала.
— А это что за чудо в перьях? — это он про меня.
Я в тот день была в дедовом кителе и армейских штанах. На груди скромно болтались пять медалек с Гагариным. Ну и в очках, конечно. Все посмотрели в мою сторону и промолчали. Делать нечего, пришлось говорить самой, хоть и страшно было, что наорет сейчас на меня и выгонит взашей.