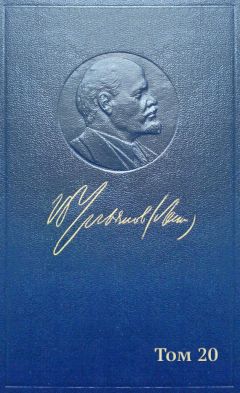Ну, начать хотя бы с того, что на прогулках он изо всех сил терпел, а возвращаясь домой, мчался сломя голову в гостиную на индийский пушистый ковер и именно там с облегчением «делал». Когда ковры по всей квартире скатали, он облюбовал для этих занятий рабочий кабинет профессора, чем, естественно, создал старику невыносимо специфические условия для научного творчества.
Во-вторых, с самых младых своих когтей Джек был попрошайка.
Миска его всегда была полна самой что ни на есть деликатесной едой. Джек тем не менее предпочитал по нескольку раз на дню унижаться возле стола, выклянчивая себе лакомый кусочек, суетливо работая для этого хвостом, нежно заглядывая в глаза и — даже! — становясь на задние лапы.
В-третьих, он был жулик.
Стоило домработнице хотя бы на минуту оставить продукты без присмотра, как Джек незамедлительно карал старушку за рассеянность. Вылетал из засады, махровый махновец, хватал, что можно было схватить, и тотчас уносился в потаенные углы свои, где и сжирал добычу с фантастической скоростью. Однажды, к примеру, он в считанные секунды уничтожил полтора килограмма свежезамороженной клубники, после чего несколько дней хрипло перхал и виновато икал.
Его, конечно, стыдили, увещевали, строго ему выговаривали (бить собак англичанин Джек категорически не советовал), но толку, разумеется, было мало.
Я-то думаю, что Джек попросту скучал, а может, и совестился есть пищу, не заработанную честным трудом. Он ведь был чистокровный дворняга, а дворнягам легкий хлеб есть негоже.
Обожал Джек ко всему прочему и звон бьющейся посуды. Особенно, подозреваю, хрустальной. Очень он уважал потянуть за уголок скатерть с сервированного стола…
Об изгрызенных туфлях, о безвозвратно попорченных ножках у мебели, о неистребимых пятнах на паркете… — о многом еще можно было бы поведать, перечисляя убытки, которые понес профессорский дом за время пребывания в нем Джека.
И все же, как ни странно, его любили. Стонали, но любили.
Он был такой простодушный балда. Он так распахнуто радовался всему и всем на свете. Такая обаятельная восторженная глупость сияла в его карих глазах! Такое ликующее удовольствие быть на этом белом свете — бегать, грызть, мочиться, красть, попрошайничать, гоняться за кошками, облаивать машины, крушить посуду, рыться в помойках, валяться по полу, такую ослепительную дикарскую радость бытия излучал он, что, когда изгнали его из профессорского дома, стало там сумрачно и тихо. Чинно, чисто и скучно стало — как в никем не посещаемом музее.
И старик профессор, самый изо всех некичливый и веселый, больше других понимавший Джека, вдруг непонятно почему загрустил. Подолгу не мог сосредоточиться на своей работе. Да и сама работа — страшно сказать — стала казаться вовсе не такой уж важной и нужной людям, как думалось раньше…
А дочка профессора вдруг ни с того ни с сего стала раздражительной и беспокойной. Потом вдруг опасно притихла. Сонно, смиренно и сыто усмехалась на все вопросы, все позднее и позднее возвращаясь с бесчисленных своих семинаров, симпозиумов и конференций…
У жены профессора — должно быть, от тишины и покоя, воцарившихся после Джека, — разыгрались вдруг мигрени. А потом стал пошевеливаться камень в почке. Она как-то разом вдруг подурнела, пожелтела, скисла. При любимейшем раньше слове «диета» махала теперь рукой с озорством и бесшабашностью совсем уже старушки…
А зять профессора еще тоньше и обидчивее стал поджимать по любому поводу губы; чуть что, запирался в комнате — работать будто бы над диссертацией. Добывал там из-за книг бутылку коньяку и принимался подолгу, мрачно пить, косясь на свое отражение в зеркале и сладко-ехидно все рисуя и рисуя в воображении картины своего дерзкого ухода из этого дома — из дома, куда шесть лет назад он проник исключительно ради диссертации (до сих пор, кстати, не написанной), подавив и собственную гордость, которая еще была в нем в те годы, и брезгливую неприязнь к профессорской дочке, — все в себе подавив, кроме лакейства…
С самого начала, конечно, ясно было: Джек не жилец в этом доме.
Список совершаемых им злодеяний рос день ото дня. Преступления приобретали все более тяжкий, даже можно сказать циничный, характер. И потому час расставания Джека с профессорской средой обитания надвигался неумолимо.
…В тот роковой день его чинно-мирно прогуливала на поводке домработница вдоль улицы. И вдруг он увидел: мимо них, завывая сиреной, мигая фонарем, не соблюдая правил дорожного движения, несется «скорая помощь»!
Джек, разумеется, тотчас рванул на перехват ненавистного врага! Да ведь так, обалдуй, рванул, что выдернул бедной старушке руку из плечевого сустава! Это и был конец.
Домработнице плечо вправили, но она предъявила ультиматум: «Или — я, или — этот…»
Смешно было рассчитывать, что в споре с такой дефицитной старухой победит безродный пес.
И вот среди зимы Джека привезли к Роберту Ивановичу Закидухе и с бурными извинениями попросили повоспитывать собаку до лета. На расходы по воспитанию («Мы же понимаем, что это вам лишние хлопоты…») положили двадцать рублей в месяц. Это — не считая тех костей и мяса, которые раз в две недели обязан был привозить на голубой «Волге» смиренный зять своего тестя.
Роберт Иванович согласился и горячо принялся за порученное ему дело. На двадцатку накупил «Молдавского розового». Мясо пустил на закуску. Сел к столу и стал, прихлебывая, мучительно размышлять на темы воспитания.
Через полтора часа раздумий он подозвал к себе Джека. Снял с него ошейник, импортный, натуральной мягкой кожи, и церемониально отправил в печь.
— Видишь? — сказал он Джеку. — Ты рожден свободным. И поэтому я решил — живи свободным! А улица тебя воспитает.
На этом педагогический процесс раз и навсегда закончился, хотя стипендию Джека и его спецпаек Роберт Иванович продолжал принимать без возражений.
Уже через пару дней никакого столичного лоска в Джеке было не сыскать. Перевоплощение комнатной профессорской собаки в уличного полубездомного пса произошло безболезненно и мгновенно. По натуре весельчак, Джек2 на первых порах впал прямо-таки в эйфорию от восхитительной безграничности здешней жизни. Беги куда хочешь! Делай что хочешь! Четыре стороны на белом свете, и все они — твои! Ни единого запора! Мир настежь распахнут! Во-оля!
Братишка появление Джека воспринял спокойно. В компанию к себе взял. Однако, судя по всему, он никогда не забывал об ущербном профессорском прошлом своего братца: чуть что, напоминал, кто тут испокон веков, а кто — приезжий…
Лидером в этом дуэте стал Братишка. И даже впоследствии, когда они окончательно подросли и оказалось, что Джек покрупнее и посильнее Братишки, Джек все-таки к миске своей приближался только после того, как начинал трапезу его авторитетный братец, и даже самую сладкую кость уступал ему без ропота. В играх же, едва только чувствовал, что Братишка начинает серчать всерьез, тотчас валился кверху лапами и подставлял брательнику горло, лишний раз демонстрируя беспрекословность своего подчинения.
Братишке этих знаков покорности было достаточно. Властью он не злоупотреблял. Время от времени было необходимо, разумеется, напоминать этой столичной штучке, кто есть кто, но в общем-то он сразу полюбил Джека, и зажили они дружно. Джек, мне кажется, вообще никакого значения этой своей подчиненности не придавал: ему подходила любая жизнь — жизнь вообще.
Так, неразлучной парой, они и стали теперь бегать по поселку — дружненько, плечом к плечу. Джек — на полголовы впереди, Братишка — чуть сзади. И когда они вот так, шаг в шаг, бежали — вот тогда, пожалуй, можно было поверить, что это родные братья.
Братишка — особенно в соседстве с Джеком — выглядел псом многодумным, не по возрасту серьезным.
Любил подолгу глядеть в огонь. Вокруг глаз у него были наведены темные актерские тени, и от этого во взгляде Братишки постоянно чудилась некая философская печаль, удивительная в собаке.
Он был умница. Разбирался в выражениях человеческого лица. Чутко реагировал на малейшие оттенки в настроениях людей. Если чувствовал, что сейчас не до него, — тотчас скромно исчезал. Когда видел, что ему рады, сам становился весел и радостен.
Был он и очень самолюбив, даже обидчив. Когда появился у Закидухи Федька, Братишка отнесся к нему, как все взрослые собаки — без особого интереса, но в общем-то снисходительно. Позволял Федьке играть с собой и уж, конечно же, не обижал.
Но вот однажды Федька, бесцеремонный, как и подобает всякому щенку, переступил в озорстве своем какую-то, только собакам ведомую грань. Братишка тут же поставил молокососа на место. Может, пристукнул лапой. Может, слегка прикусил. Федька заорал. Роберт Иванович, не разобравшись, в чем дело (и вообще находясь в то утро в расстроенном самочувствии), ударил Братишку. И — все!