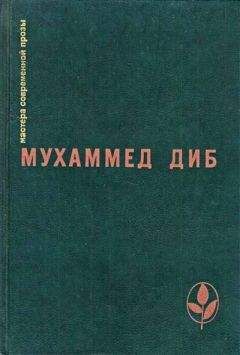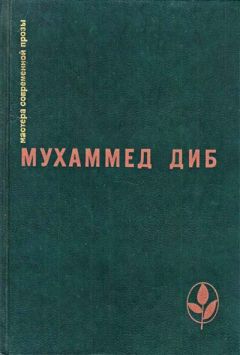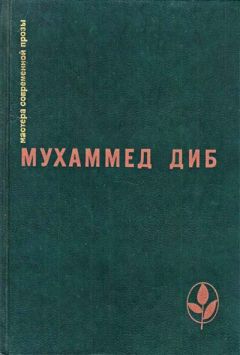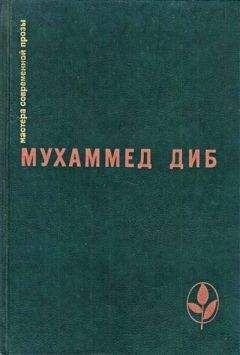— Тут я не могу с вами не согласиться, — сказал он на последнее замечание доктора.
У него и в мыслях не было угодить доктору; слова вырвались помимо его воли, кроме того, он вовсе не хотел прослыть грубияном. Однако вид у Камаля был по-прежнему суровый. Он знал за собой способность привлекать людей, и доктор Бершиг не был исключением, но это вовсе не льстило Камалю, скорее раздражало. И он поспешил добавить:
— Но вашего образа мыслей я не разделяю. Диву даешься, как вы, человек науки, пришли…
— К такому бреду, — заключил за него доктор.
— К таким умозаключениям.
— Человек науки вовсе необязательно недалекий.
— Конечно, нет!
Приятель Камаля, учитель математики Жан-Мари Эмар, до сих пор лишь молча переводивший сигареты, теперь без всякой, казалось, связи с предметом спора бросил:
— Своего счастья не замечаешь.
Камаль в недоумении уставился на него.
— Что вы хотите сказать? — удивился и доктор Бершиг.
— Вы обладаете сокровищами, какие нельзя купить ни за какие деньги. Хотя жизнь у вас и трудна, а может, как раз поэтому, у людей здесь открытые сердца, вера помогает им. Они верят — и они счастливы, а это такая редкость в наш век, когда царит разум, польза, комфорт, когда так редок человечный взгляд на себе подобного. Посмотреть на мир таким взглядом — уже означает в какой-то степени его спасти.
— Нет, позвольте, а причины, вы о них задумывались? — сдержанно поинтересовался хирург. — Просто мы еще далеки от того, что вы называете разумом, пользой, комфортом.
— Гордыней, раздражительностью!
— Да, но, когда мы достигнем всего этого, мы лишимся тех душевных качеств, коими вы нас столь щедро наделяете.
— Не думаю. Здесь каждый действует в интересах общества, у нас же наоборот: даже работая для общего блага, нельзя отделаться от ощущения, что стараешься только для себя.
Все эти разговоры начали утомлять Камаля. Это походило на выступление актеров, долго искавших и наконец нашедших себе роли если не по способностям, то, во всяком случае, по вкусу. И декорации были в самый раз: дом, несмотря на уйму французских вещей, по сути оставался домом алжирца. Приятно было видеть нежное благородное сияние серовато-розового дельфтского фаянса, которым была отделана веранда, где они сидели. Камаль молча предался созерцанию, и, пока говорил Эмар, с облегчением отвлекся от спора, и мысль его пошла скитаться по причудливым тропинкам памяти. Ему припомнилось, как они с Жаном-Мари в первый раз посетили доктора Бершига — их привел Си-Азалла, который сидел сейчас, не раскрывая рта, справа от Камаля. Дело было прошлым летом, в воскресный день. Они вошли, представились, доктор предложил им сесть на этой вот веранде, и очень скоро они с изумлением обнаружили, что их провожатый ввел их в дом исключительно по своей инициативе. Особенно поражен был, конечно, Жан-Мари, да и Камаль чувствовал себя не в своей тарелке: за годы, проведенные в Париже, он отвык от нравов, принятых в его стране, и в частности от обычая приходить без приглашения. Камаль знал, как нравилось его приятелю сводить людей, которым словно на роду было написано встретиться; если бы Камаль вовремя об этом вспомнил, он бы подготовился к такому повороту. Но тогда все обошлось. Ему предстояло заново открывать свою страну.
Беседа между тем продолжалась, хотя ухо его не улавливало слов, фраз — лишь поток звуков, глухо давящий на виски. У него не было желания прислушиваться к разговору: ничего нового для себя в этих словесных баталиях он все равно не почерпнет. Он сложил молитву: «…Дай, Господи, нам тишину на каждый день. Глубокую, настоящую, ненарушимую. Нам не помогут ни речи, подобные тем, что мы слышим здесь, ни пустые разговоры, когда признания не вызывают доверия, стыд отбрасывается, всякое суждение отвергается с порога; мало того, ничто с точностью не утверждается, никто никого не слушает. Нужно лишь сознание своей вины и слово, которому одному может послужить ответом самая полная тишина».
В этот момент до него донесся голос доктора Бершига, возражавшего Жану-Мари Эмару:
— Очень сожалею, но придется вас разочаровать: мы ведь тоже не стоим на месте.
И Камалю ничего не оставалось, как снова прислушаться к разговору. Необычным свидетелем их краснобайства глядела в окна полная величия ночь.
— Наш прогресс прямо-таки ошеломляющий. Он уже освободил нас от устаревшей, несуразной штуковины, именуемой душой. Никто более и не заботится о подобных пустяках — поумнели; мы теперь доподлинно знаем, чему человек должен посвящать свое драгоценное время: он должен зарабатывать деньги, и как можно больше. Вот что придает жизни смысл! Вот что определяет наши теперешние поступки, занимает наши мысли. Вам же все видятся остатки нашей былой невинности и присущие ей добродетели. Но бог — прибежище варваров. Вы можете сколько угодно превозносить варваров, но не принимайте нас за них. Иначе пришлось бы допустить… много всякого. Нет, поверьте мне, цивилизация уже вступила у нас в свои права.
— Надо же! — вырвалось у Камаля.
Не удержавшись, Жан-Мари улыбнулся. Однако чувствовалось, что слова доктора не поколебали его убеждений.
— Эти добродетели — вовсе не плод моего воображения. Они существуют на самом деле, и это ценности, к которым наша индустриальная цивилизация будет всегда стремиться, но никогда их не обретет. Она не способна их породить, но вполне может уничтожить их там, где они еще есть. Вы сохраняете человеческие качества, которые составят наше счастье, будут питать наши души до тех пор… до тех пор, пока не случится невероятное и мы не сможем приобрести их сами взамен на… что вот только мы предложим взамен? Нашу хитрость, пронырливость?
Доктор скривил губы, показывая, что не испытывает подобных сожалений и что ему вообще неловко такое слышать.
Увлекшись, Жан-Мари не обратил на это внимания:
— Сегодня варвары — мы. Бог хорошо бы сделал, если бы посетил и нас, в первую очередь нас, почитающих одних лишь кумиров.
— Когда являешься из мира, где хлеб насущный, здоровье людей давно уже перестали быть проблемой, нищету, моральное убожество нашего мира не видишь, видишь только «святость». Это естественно. Но смею вас заверить, тем, для кого нищета — повседневное состояние, живется несладко.
С безучастным, почти натянутым видом доктор произносил свою тираду.
— Надо же! — вновь вступил Камаль Ваэд.
Хозяин дома обратил на него рассеянный взгляд, в котором, однако, читался вопрос. Жан-Мари Эмар быстро вытащил сигарету и закурил.
— С вашего позволения, — начал Камаль, — расскажу об одном человеке, башмачнике Мимуне; в свое время я его знал, у него была мастерская на улочке Гранатовых деревьев в клетушке, где и двоим не развернуться. Я иногда заходил к нему почаевничать или выкурить трубочку… О, не подумайте чего, гашиша самую малость, в основном табак.
— Но к чему…
— К чему я это рассказываю? Наберитесь терпения, пожалуйста. Так вот, этот неграмотный башмачник пел Абу Мадиана, песню, которая переходила в их семье от отца к сыну:
Я владею напитком, и я виночерпий красот,
И в радости я разрываю одежды!
Камаль вопросительно оглядел всех присутствующих:
— Знаете эту песню?
Кто я теперь? Когда весь я во власти вина,
Под музыки нежные звуки, может, знание ко мне низойдет.
И он не просто пел, он толковал смысл. Так, по-вашему, он человек примитивный?
Тихая, не выразимая словами боль отразилась в светлых глазах доктора Бершига. Несмотря на это, а может, как раз поэтому Камаль продолжил:
— Как-то два драчливых воробья свалились прямо во дворик, нарушив тишину августовского дня. Глядя на их возню, Мимун отложил работу и, когда они на время угомонились, сказал: «Я верю в пророчества птиц». В другой раз мы беседовали о человеке, известном в городе своим лихоимством. Мимун вздохнул и улыбнулся: «Он целится, и он же цель, он стреляет и попадает в себя». Спешу добавить, не все его речи звучали столь убедительно. Однажды, не помню, по какому поводу — разговор был долгий, — он признался: «Не стыжусь сказать: люблю добро и мечтаю о том времени, когда оно воцарится в нашем мире. Но никто не желает взять на себя зло, в котором мы погрязли. Наоборот, мы ратуем за добро, хотим добра на всей земле и забываем про зло, которое никогда не плодилось столь беспрепятственно, а значит, на нашей оно совести или нет, мы все равно виновны. Надо кому-нибудь из нас взвалить на плечи этот груз. Кому? Где такой человек? Думаю все же, он недалеко».
Хирург нетерпеливо передернул плечами.
— Про Мимуна я кончил, — успокоил его Камаль. — Только напоследок приведу его слова: «Человек говорит: я больше ничего не жду от жизни, пусть приходит смерть. И тогда начинает поступать по справедливости. Когда поет соловей, он алчет смерти».