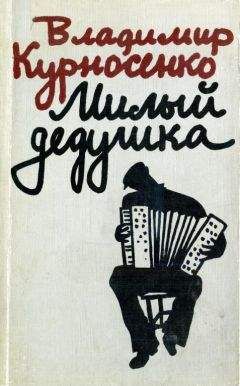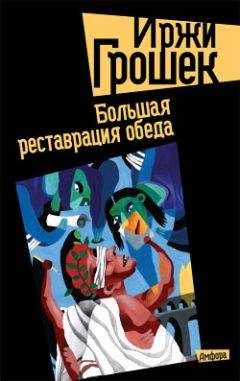— Ели? — спросил.
Ели, ели… Татьяна в который раз картошку на сале подогрела — чего ж они, девки, еще придумают-то? Ладно. И… не выдержал, в сарай ушел; вроде по делу, а сам постоять успокоиться с глаз. Ладно, ладно, ничё!
Убежали девки. «На улку…» Повертелись-повертелись и упрыгали. Понял — ожидали его, чтоб накормить.
Хозяйки.
У Володи-электрика в доме тоже не все в порядке.
С женой серьезное выяснилось. Врач в уголок в вестибюле отвел:
— Я должен поставить вас в известность.
Ставь!
Шел домой и сам про себя переживал: вот те, мол, нате! И что в таком разе делать? Куда? Радовались недавно — квартиру без потерь обменяли; не успел с шахты уволиться, а уж вон за тыщу километров прописка-адрес и сестра-учительница в квартале ходу за углом. Телевизор цветной приобрели, с зятем в баню по пятницам, с сестриным мужем. И — на! Должен поставить вас в известность. Это как?
И после, когда ушел врач, Катя появилась. Неделю всего и не виделись, а тут, повещённый-то, разглядел: плохо! Плохая Катя, схудела, желтая, щеки свисли, стекли будто, а глянула на него, отвернулась — поняла, что оповестили. У Марии-то — сестры был ли, цветы ли поливал? А сама вроде и не вознамеривается знать про себя. Давай, давай, дескать, показывай мне, разубеди. А я, мол, тебе поддамся.
Достал папиросы, выщелкнул одну.
— Ну как ты? — сквозь дым глянул. — Скоро отсель?
Вздрогнули губы. Скоро. А как же, мол. Бегу прям. И отвернулась, чтобы слез ее он не увидел.
Уходила от него, на худой левой икре синим червем размытым жила какая-то… Умрет баба, думал-возвращался, умрет, — чё буду в таком разе делать?
Про Володю-электрика мало разговоров. Он свежий тут товарищ, двух лет не минуло, как устроился. В электричестве своем разбирался, а к остальному-прочему кто ж его… работал! На задках здания огородик разбит по территории, две-три гряды любому желающему, кто свой. Дак он, Володя-то электрик, обижался как будто: то палки у помидор его повыдергают, то еще ли что. Ни у кого, видишь, никаких происшествий, а у него оказалось.
Про Саню ж Выдрина — иное. Женщины, мотористки которые, хлораторщицы из смен, лаборантки, уборщица там… собираются, бывало, в красном уголке зарплату ждать, — и пошло-давай! И так обсудят положение, и эдак. Как бы не дети, размышление идет, то развод Сане, ясней простого, лучшее средство, а коли эдак-то вот, с детьми, куды ж? Все равно развод! — мнение выражалось. Сколько можно сносить этакое-то! Но и нет, нет, тотчас возражение выдвигалось, другой рецепт: терпеть да отучивать супружницу мало-помалу… непонятно, дескать, куда еще завернет. Не кинешь жа детей? Ну-ну, первые тогда кивали, ну-ну, отучивай, как же, слыхали, держи-ко пошире карман!
— Жаль, — высказывался Василий Федорович Стебеньков, слесарь, — жаль меня берет глядеть на энтого бедовика!
На третьем подъеме трубу порвало, услали Стебенькова туда, а Сане Выдрину — больше-то кому? — хлораторную его под призор. Саня инструкции, какие были, прочел, бородку с баллона сбил, развинтил, свинтил все, прокладки, какие повышоркались, поменял, а хозяин, Стебеньков Василий Федорович, воротился, он ему и высказал, что поимел. Все тут у тебя навкось, все на соплях, колды-болды, — сундук, дескать, ты, Стебень, а боле никто.
Иной бы обиделся, огрызился на Саню, в гонор полез, а Стебеньков Василий Федорович нет, он стерпел.
Начальник смены, Петрович, скобычковатый мужик, иди, иди, отцентруй, велит ему, Стебенькову, мотор. А куда центровать, он от веку там лежит и еще столько же будет, коль не трогать его. Он, вишь, Петрович, мимо шел, ну и доглядел начальным глазом. Не надо! — Василий Федорыч мнение высказал, — не нужно этот мотор центровать, Петрович. Пущай как поставленный и стоит. Нет, я приказываю тебе, сучий сын! Стебеньков пошел, глянул «ишшо», — нет, нет. Петрович, не надобно центровать, хочь убей! Максим-то варит у тебя, аль уж вовсе на хрен сошел? А тот, Петрович, схватил за холку его, иди, иди, сучий сын, кому велят. Василий Федорович Стебеньков голову угнул под руку его, крутнулся, у того руку-то отшибло по графину. Графин брямк в пол да вдребезг. Петрович — в товарищеский суд. Спасибо Сане — надо ль было центровать, спрашивают. Другой неизвестно, все ж Петрович — начальство и зуб грызть долго не запамятует, а Саня — нет, аллюр три креста, нет надобности центровать, Саня сказал, и не трожь невиноватого!
А что на соплях, колды-болды, хлораторная вся, так на соплях и есть… кто возражат?
По-разному, ясное дело, относились. Кто чё. Всяк выход свой предполагал, свое понимание.
Витька — тоже.
— Ты, Матвеич, глупо́й! — учил он Саню. — Бабе, того-сего, только волю дай, не уймешь после. Ты ее, Любку-то, бери и дуй куда подале отсюда. А допрежь того в ЛТП сдай, через милицию чин чинарем, пускай ей, сучке, вправят мозги, пускай торпеду вошьют, — для страху! А страх… да от собутылов своих далеко, — выравняется, выравняется, глядишь. А?.. Подставок, уговор, не бьем. А что подставка, если разобраться? Шар в лузе — ясно, тут задел — упадет. Ясно! А рядом? Не в лузе, а рядушком. Что боле-мень игроку плевое дело его вбить. Что тогда?
Вот и получается, кроме Сани для исключительно трудовых шаров у всех прочих кишка тонкая. Попервачку форс держат еще, а к проигрышу — и все, благородству конец. Лишь бы подставкой не звалась. Забьют, не поморгуют. Или другое взять. Жениться, скажем, задумал кое-кто. Не важно! Из местных. Невеста намечена без булды, вечерний институт кончает, член КПСС, культурно тебя «Виктором»… Пустячок, а тепленькое и душу согревает. А Файку-лаборантку, чьего пацана полтора года по башке шершавой ладошкой гладил, где бывал-ночевал и шутки развеселые шутил, ту, стало, Файку, ты, известное дело, побоку. Культурно. И кто б как, а только заносит Файка банку под пиво по старой памяти — пиво-де шла-видела в столовой-то по пути, — занесет, это, сядет подле Стебенька, я, мол, ничего, я так пока посижу, — и кто б еще чего, а Саня — нарочно. И заулыбатся-то в коий век, распошаркиватся: проходи, проходи, Фаина, желанный гость. Расположение! Ты, дескать, козел, и как там с невестами у тебя культурными — сам одумывай, а мы в оплату красивых твоих бровей никого здесь отдавать не собираемся… Во!
Где-то в полвторого калитка скрипнула. Саня поднялся и, как был в трусах и майке, вышел в ограду. Любка двигалась по дорожке покачиваясь.
Заметила, ухмыльнулась, провела у лба пятерней. Вроде прическу поправила.
— Са-а-аня…
Стоял.
Подошла, дохнула «в шутку»: фо! — а рукой по голому плечу, погладила горячей рукой… Эх, эх, ждешь, мол, меня, славный мой мужичок.
— Я на развод подал, — сказал. В действительности не подавал — сказал.
Помолчала. Засомневалась, поди.
— Брось, Саня. Ты… ты это…
— И девок у тя отсужу.
И сам поверил, что отсудит. Она ж… вон какая, кто оставит ей их? А они и без… без нее как-нибудь. Все равно некуда. Некуда хуже-то.
— А я? — И ухмыльнулась. И никогда еще страшно так она не улыбалась. Без стыда. — Что-о, али не пожалеешь меня?
Повернулся, пошел.
Ненавидел ее. Ночью лезла приходила. Встал и ушел к девчонкам в комнату. На шубе и спал.
Утром в глаза не глядела, понял: поверила про развод-то. Ну и… ничё! Ушел не завтракая. Утром, знал, как ни с похмелья, а девок в школу снарядит.
«Как ни пей, ни економь, — в слесарке Стебенек высказывал опять, — наутро все одно водой опохмеляешься..» Вчера, мол, бутылку спрятал в огороде, наутресь сыскать не смог.
В былое время Саня посмеялся б, а нынче нет охоты у него. В кухню руки сунешься помыть, там суп стебеньковский взбулькивает на плите. Вчера, стало, нахрумкался, а сегодня варит из чего попадя, чё из дому ухватил. Варит да хлебает ходит целый день. Сечка сечет, деревяшка везет, телепешкин сын заворачивает. Вольгота́!
В праздник с зарплаты сбрасываются мужики, давай, давай, Матвеич, подсаживайся, — и по-хорошему вроде, по-хорошему, а он с полстакана примет, чтобы не в обиду, и айда…
Неохота, неинтересно сделалось.
Тоска брала.
Ночью, ровно в двенадцать, те, кто в смену работает, мыли фильтры.
Фильтровальный зал громадный, потолок с люминесцентными лампами метров под десять. В углах фикусы, пальмы, «бабьи сплетни» по стенам женщины развели. Прохлада. Тихо. Вдоль бетонных ям — фильтров — в три ряда штурвалы: красные, синие, черные и зеленые. Смена, четыре человека, каждый, значит, берет свой. Ты воду открываешь, ты заслонку… ты закрываешь, наоборот.
Стоишь возле вместилища, глядишь — глаз не оторвать: вода взбулькивает, наполняется, светлеет из бурой в зеленую, серую… в прозрачную потом в конце-то концов. Весь день фильтр грязь в себя собирает, ночами чистится.
Жену у Володи выписали; сказали, будут приходить, уколы ставить, а вы, мол, Владимир Николаевич, за ней ухаживайте и зря не тревожьте. Показ такой ей, что полежит, отдохнет покамест в домашних условиях, а там… видно будет.