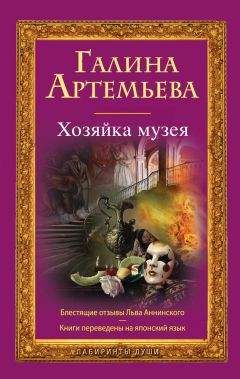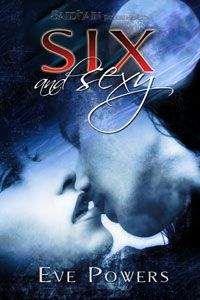«Если бы так было в раю!» – подумалось Елене Михайловне.
И сразу она решила: что бы там за жалкие экспонаты ни обнаружились, что бы там за ерунда ни хранилась, этот не тронутый ублюдками кусок русской земли она обязана защитить любой ценой. Лишь бы все осталось как есть.
С крыльца приветливо махали две трудно различимые фигурки. Она медленно поднималась к вершине холма, с каждым шагом все явственней ощущая присутствие неземной благодати.
– С приездом! Добро пожаловать! Легко нас нашли? – Низкий глуховатый женский голос звучал вперемешку с высоким мужским тенорком.
Елена Михайловна смотрела в незнакомые лица, словно узнавая в них родных.
Директор музея, простоволосая женщина в ситцевом платье и накинутой на плечи кофте ручной вязки, удивляла своей некартинной красотой. Ясные черты лица, большие умные глаза цвета реки (в них мерцалось то голубое, то зеленое), легкие русые волосы, собранные узлом на затылке, дарили впечатление чистоты и вдумчивости. Молодой человек, оказавшийся сыном Прекрасной Дамы, на мать был совсем не похож. Разве что глаза? Такие же огромные, с тайной. А так – ничего особенного, хлипкий, худосочный поздний ребенок со склонностью к умничанию, привязанный, как бывает в таких случаях, до старости к маминой юбке. Женщине было что-то около сорока пяти – пятидесяти, и определялся этот возраст не округлым, без единой морщинки лицом, а слегка потяжелевшей фигурой, полноватыми у щиколоток ногами и взглядом, лишенным ожидания. Юноша казался двадцатилетним.
– Афанасия Федоровна, – представилась хозяйка.
– Доменик, – назвался юнец.
– Афанасия! Какое имя подходящее! Означает «бессмертная» по-гречески. Вам сама судьба велела в Музее народного бессмертия трудиться, – восхитилась Елена Михайловна нежданному совпадению, слегка удивившись, что молодого человека величают столь экзотически.
– Не совсем судьба. Хотя и судьба, наверное, тоже. Мой отец – создатель этого музея. И я – единственное его чадо. Другого имени и быть не могло. Его имя Федор, по-гречески, «Божий дар». Вот я и получаюсь – бессмертная, рожденная Божьим даром.
– Как ваш отец? Музей существует с 1927 года… Сколько же ему было тогда? И когда вы родились? – довольно бестактно поразилась Елена Михайловна.
– Да, я понимаю ваше удивление. Мой отец родился в 1880 году. А я – в 1950-м. В семьдесят лет он произвел на свет первого своего ребенка и передал мне знания, опыт, историю нашего семейства, невоплощенные надежды, несбывшуюся любовь… А… – Женщина безнадежно отмахнулась от неуместных воспоминаний. – Долгая трудная говорильня. Давайте лучше отведу вас в ваши покои. Умоетесь с дороги, потом перекусим, покажу вам наши ресурсы. А вечерком под соловьев и помечтаем о прошлых днях, если сон не сморит.
– Да! – восторженно откликнулась Елена Михайловна. – Да! Соловьи! В мае должны петь соловьи! Как это я не вспомнила!
– И поют, – ласково подтвердила Афанасия Федоровна. – У них ничего не меняется. Трещат, свистят, щелкают, заливаются. Трели с вечера до утра на весь лес. Наслушаетесь. Спать не дадут.
– И не надо! И не надо! – Измученная другими шумами городская жительница самозабвенно отреклась от ночного покоя во имя наслаждения подлинным природным естеством.
Музей явил себя нежданным чудом. Естественно, все оказалось оборудованным отнюдь не по последнему слову музейной техники, но все было живым, дышащим и жизнеспособным: великолепные полы из широченных дубовых досок, высокие потолки, свет из слегка затененных шторами окон, анфилады комнат, в каждой из которых обитали бесценные сокровища.
Елена Михайловна знала, каким успехом пользуются на Западе музеи одного шедевра. В выходные тянутся со всех сторон машины к скромному загородному павильону, где со всеми предосторожностями содержится одна-единственная картина признанного мастера. Люди платят огромные деньги за входной билет, любуются, потом устраиваются на пикник в специально отведенном для этого месте, дисциплинированно общаются с природой и умиротворенными возвращаются в свои городские муравейники.
Того количества неординарных полотен, что содержались в Музее народного бессмертия, хватило бы на несколько десятков полновесных культурно-коммерческих проектов. Несколько женских портретов самого Серова! Карандашные наброски Сомова! Небольшой, но очень выразительный Врубель! Это только в одном зале. А дальше – даже себе не верилось: парочка восхитительных пейзажей Левитана. Глаза не знали, на чем раньше остановиться. Дойдя до комнаты, на стене которой красовалось полотно Брюллова, ни в одном каталоге не обозначенное, Елена Михайловна схватилась за сердце.
– У вас тут какая сигнализация установлена? – почему-то шепотом поинтересовалась она.
– А никакая! – со злорадной гордостью парировала Афанасия Федоровна, тоже понизив голос.
– Как же так! Как же это! – залепетала командировочная москвичка заполошно.
– Плевать потому что всем. Писала, просила, отказывают. Нет финансирования. И еще говорят: подлинность не установлена. Не шедевры, мол, а подделки. Догадываетесь, почему?
– Прибрать к рукам чтоб удобнее! – крикнула Елена Михайловна отчаянно. – Картины вытащат, распихают по своим дворцам и замкам, храм искусства подожгут – концы в воду. Потом «восстановят». Сделают «как было», но с другими хозяевами. Знаем: сплошь и рядом! Это не татаро-монголы, те только дань собирали. Эти – из атомной эры. После себя выжженную радиоактивную зону намерены оставить.
– А! Ладно! Как-нибудь! – отмахнулась от трагической правды хранительница вечности. – Тут, знаете, как Бог даст. Было уже всякое. Вон в 1918 все усадьбы и мало-мальски достойные дома крестьяне поразоряли, а хозяев, кто не попрятались, растерзали, как звери бы дикие не сумели. Мы же тут… устояли.
– Как только удалось-то? – подивилась Елена Михайловна.
– Папа говорил: на силу или большей силой ответишь, или пропадешь. У них тогда сила в злобе была, тьма из них поперла, бесовня. Тут уж без границ… Тут только мощью духа взять можно было. Нечеловеческим противодействием. «Из любви к невинному искусству сразился с нечистой силой», – так он иногда шутил. Отпугнул их. Рыцарские вон доспехи надел, видели в том зале? Подлинные, надежные. Вышел в шлеме, в нагруднике. Это он для защиты, если камнями кидаться станут или пульнут. Он приготовился к смерти, понимаете? И пока шел к порогу, молитву перед сражением повторял. Знаете ее? «Господи сил, с нами буди: иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы. Господи сил, помилуй нас.
Суди, Господи, обидящие нас, побори борющия нас. Приими оружие и щит и востани в помощь нашу.
Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человеческому предстательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя.
Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его».
– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, – эхом отозвалась гостья.
– Они, вероятно, сначала доспехов испугались. Не ожидали, конечно. Может, подумали, что привидение, дух какой-нибудь. Пыл угас. Папа стукнул копьем о крыльцо и посулил, что, если кто что-либо этому дому сделает, того он тут при всем народе заклинает на бесплодие – никого не родите, мол, и у вас ничто не уродится.
– Подействовало?
– Отступили. Поняли, что правду обещал. Да они, те, кто грабил, убивал, разве сами себя не прокляли? Как их потомки сейчас живут, видите?
– Хуже свиней в нечистотах, – подтвердила Елена Михайловна.
– Ушли, дом не подпалили. Есть такие безобразники, что из задора даже не побоятся. А тут – чудо! Разве нет?
Елена Михайловна заворожено кивнула.
– Вот я и не отчаиваюсь, держусь, надеюсь, – продолжала хозяйка. – Придет помощь, если суждено. Вы ведь приехали? Я и не ждала уже совсем, а вот… Так что видите, чудеса нечаянные продолжаются.
Тревога стеснила сердце гостьи, призванной спасти и помочь. Были времена, когда ее подписи под экспертной справкой вполне хватило бы для спасения. Но… река времен несется, размывая берега до неузнаваемости… Что сумеет она сейчас?
3. «Слети к нам, тихий вечер…»
Все стало абсолютно ясно с музеем: спасать, хоть бы и ценой собственной жизни! Как сделал некогда его основатель. И хитростью, и криками, и посулами, и высшими авторитетами, и сердцем собственным, и днями положенной на все это жизни – на такое не жалко. И можно бы уже уезжать восвояси, чтоб драгоценное время не истекло понапрасну. Но командировку Елене Михайловне выписали на три дня. Иначе – что за инспекция такая? И ей самой очень хотелось задержаться. Долгие светлые вечера, соловьи, весь счастливо-покойный весенний трепет сулили исцеление и оживление утрамбованной в городской асфальт душе. И когда еще! Да и будет ли вновь такой миг в ее жизни?