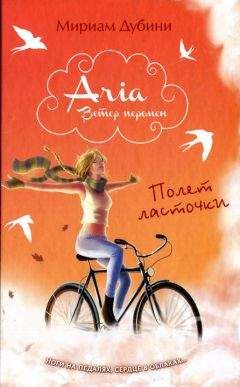В девять лет Гилберт прошел психиатрическое обследование. Поводом стало то, что однажды он не явился домой из школы. Он должен был вернуться на автобусе еще с несколькими ребятами, жившими по соседству. Не дождавшись его, Розали сообщила в полицию, но в тот день Гилберта не нашли, и сведений о том, что его где-нибудь видели, не поступало. На следующее утро в полседьмого он позвонил в дверь своего дома; ночь, как выяснилось, он провел в подвале многоквартирного здания. Свой поступок он не объяснил матери никак. Обычная его разговорчивость сменилась молчанием, похожим на прежнее — тех времен, когда он начал разглядывать ладони и когда исчезали кухонные принадлежности.
Вскоре Гилберт перестал делать домашние задания, а в классе сидел молча и неподвижно, отказываясь не только открывать книги, но даже и вынимать их из ранца. Когда спрашивали, почему, он опять-таки ничего не объяснял. Упрямство, свойственное Гилберту во взрослой жизни, возникло именно тогда; психиатр сказал, что мальчик считает себя ущемленным в неких правах, психоаналитик позднее вывел примерно такое же заключение, но подал его по-своему, со своими профессиональными словечками. 1978 год Гилберт, которому тогда было четырнадцать, провел в центре, где наблюдались люди с неустойчивым поведением. «Мы будем побуждать Гилберта делиться с нами своими трудностями, — сказал его матери бородатый сотрудник и расплывчато добавил: — И, разумеется, будут регулярные консультации». Но когда Гилберт вернулся на Бленгейм-авеню, 21, он был все тот же — только вырос почти на два дюйма и обзавелся заметным пушком на верхней губе и подбородке. За время, прошедшее с тех пор, как он отказался участвовать в школьных занятиях, он своими силами сносно выучился математике, латыни, географии, французскому и начаткам немецкого. Он жадно читал — главным образом книги по истории и исторические биографии; хорошим слогом, без грамматических ошибок писал длинные сочинения и заводил с Розали разговоры о Кавуре, о Карле Великом, о мирных договорах и разделах территорий. В 1984 году, в двадцатилетнем возрасте, он исчез на неделю. В конце следующего года опять исчез и отсутствовал дольше, но Розали получила от него несколько красочных открыток с морских курортов южного побережья, где говорилось, что у него все в порядке и что он подрабатывает в отелях. Впоследствии он об этом молчал, и, когда он исчез еще раз, открытки приходили из тех же мест; вернулся он на «шкоде»[2]. Мать так и не узнала, когда и где он научился вождению и как получил права, которые она обнаружила в ящике его туалетного столика. Какое-то время он работал в цехе консервирования фабрики по производству джема, потом перешел в архитектурное бюро — сказал, там интереснее. Его по-прежнему порой навещала добросовестная сотрудница службы социальных проблем, знавшая Гилберта еще с того времени, когда он жил в поведенческом центре. Она приходила субботними утрами, когда ему не надо было на работу. Непомерно долго рассуждает о фотокопировании, записала она однажды, решив милосердия ради не добавлять, что болтливость Гилберта очень утомительна. В конце концов, сказав Розали, что ее сын, похоже, мало что получает от консультаций и неплохо вписался в среду на работе, она прекратила субботние визиты. Состояние удовлетворительное, записала она. Опасений не внушает.
Розали не разделяла ее оптимизма. Ей не верилось, что дела у сына обстоят удовлетворительно. Ей не верилось в это уже давно, и она знала, что детское его невозвращение из школы было лишь первым звеном в цепи неприятностей. Когда его поместили в поведенческий центр, она надеялась, что он там и останется — на неопределенное время. «Попробуем разобраться, почему вы этого хотите», — стал высокомерно-бесстрастно напирать на нее один из сотрудников. Когда она начала объяснять, что это ее ощущение, и только, ее резко остановили. Ей напомнили, что центр служит для наблюдения и исследования, для накопления данных о тех или иных случаях. В этом смысле он приносит ее сыну пользу, но само собой разумеется, что оставаться здесь и дальше Гилберт не может. Гилберту, сказали ей, посчастливилось, что у него есть она. Надо исполнять свою миссию, внушал высокомерный тон — помимо слов. Она, в конце концов, мать.
* * *
Вечером во вторник 21 ноября Гилберт, как обычно, помог ей с посудой, потом сказал, что хочет доехать до «Быка». Он напомнил ей, как часто делал, где находится этот паб: угол Аппер-Ричмонд-роуд и Шин-лейн.
— Я ненадолго, — сказал он.
По телевизору в девятичасовых новостях дали картинку: редкий кизильник и сухая листва, на которых ночью лежал труп Кэрол Диксон. Мать Кэрол, призывавшая возможных свидетелей к сотрудничеству с полицией, начала и не могла закончить; камера медлила, показывая ее состояние.
Розали, не вставая, выключила телевизор дистанционным пультом. Секунду не могла даже вспомнить, выходил Гилберт вчера вечером или нет, потом вспомнила, что выходил и вернулся раньше обычного. Теле- или радионовости — вот что всегда нажимало в ней кнопку страха. Когда сообщали о предумышленном поджоге, об исчезновении ребенка, об осколках стекла в баночках с детским питанием в супермаркете, страх возникал мгновенно — торопливые подсчеты, облегчение, если время и место исключали причастность. Не однажды, пока не привыкла, она дрожала в постели, силясь не впасть в исступление. Когда от него по второму разу шли приморские открытки, зловредный экран показал выгоревший дансинг и четырнадцать трупов под одеялами на брайтонской автостоянке. Потом как-то Гилберт сказал ей: «Возьму „шкоду“, съезжу в пару-тройку мест» — и на четвертый день его отсутствия в Ла-Манше загорелся паром, причем опять заподозрили поджог. Он был в отлучке, когда бандит ограбил отделение Галифаксского строительного общества и, уходя, оставил оружие на столе — как потом выяснилось, водяной пистолет. Он был в отлучке, когда в муниципальной квартире старушонку привязали к стулу и, кроме будильника, ничего не унесли, — это напомнило Розали чайные ложки, рюмки для яиц и картофелечистку. Она была уверена, что всякий раз тут есть элемент дерзости — пусть и взвешенной, с минимумом риска. Он не подставлялся зря, он имел право дерзать безнаказанно, имел право на расчет и молчание. Он не попадется.
Вчера вечером он вернулся раньше обычного: мысль, против ее воли, заработала по-всегдашнему. Но воспоминание мало что меняло. Она видела по телевизору место, где нашли тело, подметила усталое замешательство в глазах полицейского инспектора и знала, что тут — мрак, тайна; недели, месяцы пройдут безрезультатно, убийство, скорее всего, останется нераскрытым. И еще она знала, что, если пойдет в комнату Гилберта, то не найдет ничего — ни листочка кизильника, ни обрывка одежды Кэрол. На теле у Гилберта ни царапины, на его одежде ни прорехи, в салоне «шкоды» ни пятнышка крови.
Что брак Розали развалился из-за Гилберта — такого ни разу не было сказано; но за прошедшие после развода шестнадцать лет она часто задавалась вопросом, не Гилберт ли, прямо или косвенно, подтолкнул ее мужа к уходу. Может быть, страхи уже тогда, хотя Гилберту было всего девять, подточили ее изнутри, лишили привлекательности и сил, сделали безвольной добычей наваждения? Ничего подобного сказано не было; причиной и поводом была объявлена другая женщина. Речь велась о неодолимой любви, и только.
Розали часто потом приходило в голову, что неодолимая любовь подобрала готовые осколки. Причина, она же повод, была до поры скрыта — нечто, прячущееся под привычным камнем, нечто, явившееся в безобидном облике. Дальнейшие события укрепляли ее в этом мнении. После развода были знаки внимания со стороны мужчин, приглашения в театр, обеды тет-а-тет, намеки на возможность романа. Но каждый раз все выдыхалось, в отношения вползала оглядка. Она старалась не упоминать о сыне, но он все равно каким-то образом присутствовал, и она это знала, а страх не скроешь. Страх усугублял одиночество, взвинчивал, изматывал. В магазине тканей, когда все кругом ахали: «Ужас, ужас», ей нелегко было унимать дрожь в руках.
* * *
— Я принес тебе «Ивнинг стандард», — сказал Гилберт, улыбаясь. У него привычка такая была — приносить газеты из пабов. Иногда он затевал игру: смотрел на читающих и угадывал, кто, уходя, оставит. Сам никогда газет не покупал.
— Спасибо, родной, — улыбнулась она в ответ. Она тогда написала его отцу: «Я подозреваю, что Гилберт угнал машину», и он, как получил письмо, сразу позвонил и выслушал ее, ни разу не прервав. Но потом мягко сказал, что это только догадки — мало ли кто кого в чем подозревает.
— Нет случайно пирожного? — спросил Гилберт. — «Мистера Киплинга»?
Она сказала, что пирожные на кухне в магазинной коробке.
— Чайку принести? — предложил он. Она покачала головой.