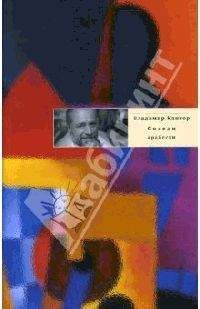Даша через три дня уезжала с родителями на юг, в Крым, вдруг ставший заграницей, но доступной для российского рубля. Остаться она не могла, для родителей она еще была несамостоятельной девочкой, только-только из школы выбравшейся. И возражать им она еще не умела, подчинялась.
– Пиши,- сказал он, понимая, что для нее в переписке надежда укрепить их отношения.
Она вздохнула:
– Ну как хочешь! Могу и не писать.- Она поднялась на ноги. Пойду в ванную. Хорошо, что ты теперь без соседей. В такой маленькой квартирке да еще соседи – это просто ужас! А теперь ремонт сделать – и можно уютно жить.
Она как бы мимоходом глянула на него и, не увидев ответной реакции, отправилась в душ. Оттуда послышались шум льющейся воды и ее голос:
– А хочешь – приходи сегодня ко мне!.. Мои уезжают на дачу с ночевкой.
– Вряд ли!- возразил он громко.- Сегодня не могу. Я сегодня вечером в гостях. День рождения у приятеля. Знаешь, он какое-то письмо удивительное получил – хочу почитать…- болтал, заговаривал ее Галахов.
Ни звука из ванной. Потом вода перестала литься, и он услышал тихие всхлипывания.
Совершенно смешавшись от ее плача, он крикнул:
– А хочешь, я тебя с собой возьму?
Она мигом возникла на пороге комнаты, сияющая, довольная.
– Очень!
Они договорились встретиться у метро “Пражская”. Несмотря на устанавливавшийся внешне европейский лоск Москвы, западное изобилие товаров, исчезновение бесконечных многочасовых очередей, Павел чувствовал какое-то возрождавшееся от времен
“железного занавеса” раздражение на всю европейскую линию русской культуры – от Петра и Пушкина до всяких там Степунов,
Франков и пр. Вчера утром в институте емупришлось говорить с одним из молодых преуспевающих политологов, автором статьи в его сборник. Молодому человеку было едва за тридцать, но уже доктор, профессор, гладко выбрит, коротко подстрижен, любимец ректора университета, где возглавлял кафедру (причем с постоянной издевкой по поводу европейских закидонов ректора). В своем тексте он доказывал, ссылаясь на Л. Гумилева, что агрессивность свойственна русской культуре как культуре молодой, пассионарной, вступающей в жизнь, и брюзжать по поводу криминалитета, бытового хамства и хулиганства – значит, уподобиться почти сгнившему старику Западу. Разговор кончился ничем, но за час до прихода
Даши молодой ученый ему перезвонил. И Павел снова возражал, напомнил слова Розанова, как это чудовищно, прожив тысячу лет,считать себя все таким же молодым, что все это говорит о какой-то дебильности. Не случайно Хомяков ненавидел рассуждения о юном возрасте и детской восприимчивости русских, восклицая, что это совсем не утешительно и напоминает “девятисотлетний рост будущейобезьяны”. И, кстати, как раз о молодости России все время твердят западные мыслители.
Трубка хихикнула:
– Да я чего? Вычеркивайте из моего текста что хотите! Я разве возражаю, что элита ихняя понимает? Но вот на бытовом уровне – ни капли. Тот же немец и свою-то Гретхен по приказу сразу на мыло пустит. А нас тем более.
– Геннадий, это вы о другом. И вы, и я в Европе бывали. Вы сами могли видеть, что они вполне оценивают нашу молодость.
– Да вы не обижайтесь так. Хи-хи! Я все готов вычеркнуть, что прикажете. Наплевать! (За этим “наплевать” чувствовалась уверенность в том, что в другом месте он все равно опубликует что хочет.) Я ведь только о том, что Запад свои стереотипы навязывает, давит на нас.
Павел покоробился, вспомнив, как распекал лет двадцать назад их, молодых аспирантов, приехавший в институт из горкома инструктор, уверявший, что Запад нарочно придумал массовую культуру и изобилие товаров, чтоб развратить советских людей.
– Каким же это образом? – сухо спросил он молодого ученого.
– Хочет, чтоб мы жили его принципами. Для того и товарами завалил. Да вы, Павел Вениаминович, не обижайтесь, я ведь против вас не выступаю. Я ведь мещанин, мне на многое плевать, но я знаю, что моя двоюродная бабка не смогла корову продать, потому что все прилавки датским мясом завалены. Вот эту бабку мне жалко, а датчан, которые атакуют нас своими товарами, я не хочу любить и не люблю.
– Знаете, Геннадий, наверно, я больший мещанин, чем вы. Когда были только бабкина корова да колхозные поставки, пропадала
Москва и другие русские города. Я помню ночные очереди за мукой с номерками на руке. Я помню, как моя бывшая жена поднималась в пять утра, чтоб купить молоко для наших маленьких детей. Пусть я развелся, но мне спокойнее, когда я знаю, что теперь они сыты, обуты, одеты. И это мне наплевать на любую идеологию, лишь бы были целы мои близкие. А вот вы идеолог.
– Да что вы, какой я идеолог! Это я такой простак, болтаю, что на ум придет. Вы серьезно к этому не относитесь. Это ведь все игра ума,- хихикнув, объяснил он (почему-то Павел вспомнил постоянное хихиканье Петруши Верховенского из “Бесов”).- Но,- и тут вдруг голос молодого ученого стал жестким,- они на Западе думают, что мы сломились, но, даже если нас сократят до территории Московского царства, мы все равно останемся империей.
И будем драться. Я это умею. И знаю, как это делается стенка на стенку. Вы нам свою идеологию навязываете, а мы вас по морде, вот что мы Западу скажем.
– А мы разве не навязывали всему миру свою идеологию всего чуть более десяти лет назад?
– И снова будем. Я только думаю – другую. Я ведь коммуняк этих не меньше вас ненавижу. Но мы всегда были великой державой. И остаемся таковой. Потому нас и боятся.
– Были периоды, когда и великими не были, когда нас и не боялись, просто почти не замечали. Как раз тогда, когда мы назывались Московским царством. Величие началось с европейских реформ Петра. А от иного величия страшно. Бандит с ножом тоже чувствует себя великим и значительным. Тем более киллер. Такими мы и были для всего мира при Сталине,- нервничал Галахов.
– Да вы не сердитесь,- увертывался и хихикал Геннадий.- Я же просто хочу говорить от лица моих близких – от лица дяди Васи, дяди Пети, дяди Коли, от лица моей бабушки, которая на любое постановление властей говорила: “Плевать!”- и жила себе дальше.
Да-да, такой мещанский пофигизм. Но он-то есть живая жизнь, которая растет лопухом на любой свалке безо всяких высоколобых теорий. Вот эти мои родные мне дороги. А ваш Запад нет. Они стали алкоголиками, мои дяди, спились и померли от водки. Но почему я должен любить какого-нибудь Джона или Ганса, когда мне моих жалко, а Джона не жалко?
– Во всяком случае, мне кажется, ни Джон, ни Фриц в их алкоголизме не виноваты!
– А вот этого я не знаю. Может, и виноваты. Потому что задают всему миру ту систему ценностей, от которой мир трясет.
– Мир, то есть общину?
– Вы умный человек, Павел Вениаминович. Можно и так. Вы должны это чувствовать. Вы же из Галаховых. Значит, понимаете, что такое род и семья.
Павел с тоской подумал, что статью Геннадия Ивановича Самойлова он все равно опубликует. И это самое смешное. Опубликует своего будущего могильщика. Потому что не опубликовать – непорядочно.
Тот же рассуждает о бабушке и дядьях, а жена его, не стесняясь, рассказывала, что работает в фирме “по распродаже природного богатства России”, постоянно ездит в Лондон, Берлин, Париж и другие европейские центры.
Тень длинного высокого дома легла на окна автобуса, стало прохладно. Хотелось, чтоб остановка около этого дома продлилась бы вечно. Кто-то облегченно вздохнул. Но автобус тронулся – и снова солнце, жара, духота.
Быть может, и в самом деле Самойлов говорил с ним так доверительно только потому, что он из Галаховых, фамилии, известной в русской культуре, вдруг подумал Павел сквозь давящую жару. Да-да, репутация умного человека из хорошего рода с традицией… Хорошо это или плохо? Чуть больше двадцати лет назад на третьем курсе он был влюблен в однокурсницу, красотку, обрусевшую полячку, при этом генеральскую дочку. Готов был даже жениться. Но она искала гения: “Мне нужен гений. Только за гения”. “А я?” – спрашивал Павел, поглаживая свои усы, которые тогда старался сделать похожими на усы не то Лотмана, не то
Ницше. (Он слыл на филологическом факультете “великим человеком”, да еще шарм фамилии: знающие преподаватели спрашивали, “не из тех ли он Галаховых”, и настаивали, чтобы он как следует выяснил свою родословную. Павел, однако, знал твердо, что он “не из тех”, всего лишь однофамилец, но, напуская туману, мычал неопределенно, что и без того свою родословную знает, но что ему претит вся эта геральдическая возня.)
Надменная красотка усмехалась: “Нет, Пашечка, и ты нет. Тебе происхождение твое мешает. Нет в тебе цельности и первозданности. Сам же все о рефлексии толкуешь. А значит, не способен ни к любви, ни к творчеству. Нет-нет, может, что-нибудь ты и создашь. Но – не первого ряда. Первых в народе надо искать.
А вы все – интеллигенты, межеумки. На поступок не способны”. “И я?” – пыжился в ответ Галахов. “И ты, и ты. Ты умный мальчик, сам поймешь, когда вырастешь. Ведь ты даже не уверен в подлинности твоей фамилии…”