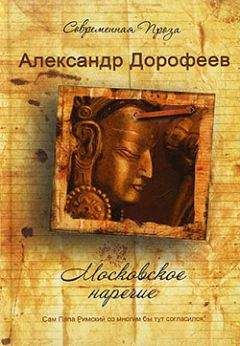Он не знал, как поступать, а Женя, разворошив теплые трусы, рейтузы, платье, быстрым шепотом направляла: «Выше, выше, Бубличек. Ну, вот так! Ты поймешь, когда нужно выскочить»… Было ужасно ответственно – вовремя понять! Кузя только и думал, как бы не ошибиться. Он выскользнул скоропостижно и ловко, точно из класса на уроке биологии.
Еще ступени не подравнялись, а они уже натянули штаны. И, дико хохоча, скакнули с эскалатора, перепугав дремавшую дежурную. Это и запомнилось более всего. Вообще Кузе понравилось, поскольку случилось быстро и кончилось весело.
В школе они вели себя как мало знакомые, если не считать тайных взглядов, от которых спирало дух. Вскоре Женя назначила записочкой свидание в ближайших Машковских банях, узнав каким-то образом, что мужское душевое отделение закрылось на ремонт, и все без разбору моются в женском.
Сначала туда заходила Женя, вывешивая полотенце с райскими птицами на дверь кабинки. Кузя занимал соседнюю и, проворно раздевшись, перешныривал через кафельную стену – прямо в объятья.
Мылись они долго, часа по три. И часто, раз пять в неделю. Исследовали друг друга в подробностях. Иногда готовили уроки и засыпали, обнявшись, на банкетке. Такое странное бытие напоминало о Чистилище, которое в своих границах казалось бесконечным. Хотя всему положен внезапный предел…
Женя рассказала, как прошлым летом завлек ее в гости и лишил невинности знакомый лейтенант Шайкин. Эта история до того потрясла не терпевшего насилия Кузю, что он возненавидел военных. К тому же забыл запереть на крючок дверь своей кабинки, и они едва не попались. Именно какой-то младший офицер обнаружил, вперевшись, одежду без хозяина и тут же доложил банщице. Кузя едва успел одолеть стену, разодрав впопыхах грудь, отчего на всю жизнь остался шрам в виде стрелки, указующей точно на сердце, выдаваемый впоследствии за след поножовщины.
Ремонт, конечно, затягивался, а Кузя уже настолько умаялся от нескончаемого лазания да мытья с катанием, что вдруг завшивел и подцепил куриную слепоту, отнимавшую зрение с заката до восхода солнца, – не стало для него, так сказать, зари и свету от огня. Особенно в бане глаза шалили, плохо различая объекты. Ну, точно как в чистилище…
К счастью, мужское отделение сдали перед экзаменами. Удивительно, как Кузя справился с ними, не оставшись на второй год.
В голове его тогда все смешалось – опера, Женя Онегина, физика, эскалатор, чистилище, лейтенант, алгебра. А один лишь взгляд на Машковские бани, теперь снесенные, долго еще повергал в нервное истощение и сумеречную слепоту.
С юных лет Кузю встречали, где бы ни появился, как своего в доску – земляка и единоплеменника. Постоянно принимали за кого-то знакомого, безмерно родного и дорогого – брата, друга или милого товарища. Иногда даже, приглядевшись, вспоминали о животных – любимом псе, кошке, а то и лошадке…
«Наш козлик!» – сказала как-то абхазская тетка на Пицунде, указав оранжевым пальцем. А под Сухуми к нему подошел снежный человек, спустившийся на минутку с гор за сигаретами «Прима», и едва не увлек по-родственному в какие-то дебри.
Конечно, в свои его зачисляли большей частью внешне, по виду. Да он бы и сам, пожалуй, не сказал, каков в сущностных глубинах. В целом его отношение к себе имело древний соборный характер, очень завися от суждения окружающих.
Он путешествовал всегда с гитарой, помогавшей обжиться среди новых людей. Его репертуар по тем временам был довольно изысканным – американские духовные песни-спиричуэлс про исход из Египта и марширующих в рай святых, русские романсы, вроде печального «Прощания с умершей возлюбленной», а еще «Йестердей» и «Беса ме мучо».
В пионерском лагере «Соколенок» на голом острове Березань, где расстреляли некогда лейтенанта Шмидта, он уместно пел о корнете и поручике, представляя себя то Голицыным, то Оболенским, хотя, вероятней всего, оказался бы в другом стане. Но, возможно, и там и сям приняли бы за своего.
После торжественной линейки сварили на костре в громадном котле портвейн с яблоками. Довольно быстро все напились и наелись. Кузя к тому же попробовал закурить, отчего голова резво поплыла на одинокой весельной шлюпочке в сторону Турции.
Очнулся он на узкой полосе берегового песка – в обнимку с пионервожатой Зоей, которая тоже слабо понимала, что и как. Над ними нависали крутолобые, поросшие убогими кустами скалы, а совсем близко, под носом Кузи, поскольку лежали они бесстыдным валетом, вздымался, как трибуна, говорящий Зоин лобок. «Кажется, ты лишил меня цело… – прозвучало задумчиво и нараспев, – мудрия».
Кузя встрепенулся, даже огляделся и, не заметив ни того ни другого, здорово струхнул. «Или это в прошлую смену? – зевнула Зоя, разворачиваясь. „Так или иначе, а теперь мы перед Богом муж и жена“, – говорила расслабленно, но вполне уверенно, будто посвященная не только в устав пионерской организации, но и в некий высший, вселенского порядка.
Ледяной ужас сковал Кузю, как представил скорую свадьбу с пионервожатой. До того притих и съежился, что нарушил уже известный второй закон термодинамики – горячее тело Зои, соприкасаясь с его холодным, разогревалось, а сам Кузя наперекор земным правилам все более остывал. Явное чудо, но, увы, не из приятных! Впрочем, Зое, видимо, было хорошо и вольготно, словно под сквозняком. А в Кузиной голове навязчиво крутилось из «Чайльд-Гарольда»: «Мохнатый холм, увенчанный леском».
Им овладела на острове, как в утлой шлюпке, морская болезнь – мутило с утра до вечера, пока не накрывала серой рогожей куриная слепота. Он не знал, что это первые признаки «березанки», здешнего недуга, нередко переходящего в затяжной суицидальный синдром холостяка. «Бедный мой, горький Кузьма, бесталанная голова, рибофлавина тебе не хватает», – говорила Зоя, потчуя назойливо витаминами А и В. И скормила столько, что ночью он стал видеть лучше, чем днем, – внятные сны, в которых ему надевали на палец золотое кольцо.
Он бы не объяснил, отчего так боится женитьбы, но просыпался в поту и тоске, вспоминая молодые пары с колясками, гулявшие в сквере под окнами дома. Ему всегда казалось, что все у них завершено. А «березанка» длилась, тянулась, не оставляла, вызывая ежедневную тошноту, а вместе с нею страх, укоренившийся тут еще с казни лейтенанта Шмидта. Сам остров стал для Кузи лобным местом, где натуральней всего расстаться с жизнью.
Однако дотянул до конца смены, ласково простился с Зоей, ступил на материк, и все будто бы миновало, да не совсем – не до полной, к счастью, свершенности.
Говорят, следует иногда оглядеться да задуматься о жизни – как она идет? Кузя впервые попытался, терзаясь на острове Березань. И вдруг понял, что со времен скифской бабы очень изменился, и, кажется, к худшему – стал пассивен, иначе говоря, страдателен, то есть не он выбирал, а выбирали его, как овощ из корзинки.
Единственная женщина, от которой сам Кузя был без ума, не обращала на него внимания. Точнее, обращала, вызывая к доске, но совсем не благосклонное, поскольку, тонко оценив пустоту Кузиной головы, неминуемо вписывала изящной рукой двойку в журнал. И все же каждое ее слово и движение заставляли его тихо трепетать, а любое наглядное пособие в классе, вроде пластмассовой ДНК, вызывало прилив нежности. До самых выпускных экзаменов Кузя сох, как забытый в корзинке огурец, по учительнице биологии.
В детстве бабушки пугали его цыганами. Холодело в груди, когда видел табор, возникавший вдруг, как из-под земли, неподалеку от дачного места «Графское», или отдельных скитающихся цыганок с выводком ребят. Он и представить себя не мог среди этой грязноватой ватаги. Даже театр «Ромэн» всегда обходил стороной, хотя и тянуло заглянуть, как в бездну.
Но от всяких пучин и пропастей никуда, вероятно, не денешься. И героиней первого настоящего романа стала именно танцовщица из этого театра.
Явилась Рая неведомо откуда на Крымском мосту с маленьким бубном под мышкой. Чуть коснувшись плеча, спросила, сколько времени, и, пока он соображал, легко пленила, сразу узнав имя, а затем и фамилию.
«Рома?» – посмотрела в глаза. «Кузя», – отвечал он искренне. «Бубен», – улыбнулась, перехватив его взгляд и стукнув пальцем по янтарной коже, так что из-под мышки загудело низко и глухо, будто шмель прилетел. Он ощутил, как накрывает с головой звуковая волна, трогая в душе какие-то струны, которым отозвался даже мост, вздохнув тягуче стальными канатами и всем долгим своим пролетом. Пока переходили его, Рая сообщила по-свойски, точно старинная подруга: «Представь, Бубенчик, сегодня утром нашли детеныша трицелопопса». Не зная, что сказать, Кузя понял – это счастье.
Весь день они гуляли в Парке культуры меж колесом обозрения, качелями и пивными ларьками. Рая успела многое угадать в Кузе, поражая верностью обзора, словно глядела с великого колеса бытия, откуда все как на ладони.