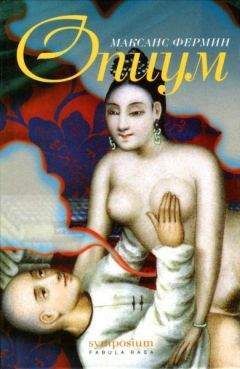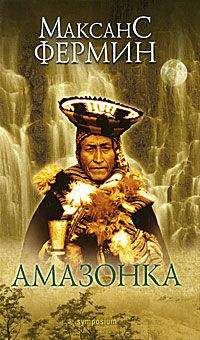— Дитя мое, кто ваш лучший друг?
Иоганн, не задумываясь, тут же ответил:
— Моя скрипка.
Каждый вечер после концерта Иоганн возвращался в свое детское одиночество. Никогда он не чувствовал себя так одиноко, как теперь, когда к нему пришла известность.
5
Такая жизнь, полная успехов, продолжалась десять лет. До смерти г-жи Карельски. Потеряв мать, Иоганн лишился единственной нити, что связывала его с миром людей. И оттого он испытывал глубокую печаль, которая окончательно так никогда и не прошла.
Устав быть одной из тех ученых обезьян, которых показывают при всех европейских дворах, Иоганн решил прекратить гастроли и поселиться в Париже, где он изредка давал концерты с благотворительными целями. Ему было семнадцать, он по-прежнему великолепно играл, но это уже не было чудом.
А потом все вообще позабыли про мальчика, которым восхищались монархи Европы. Времена наступили тревожные, королевская власть шаталась. Людям не хватало хлеба, и очень скоро они перестали интересоваться музыкой.
Шли годы.
Для заработка Иоганн давал уроки игры на скрипке нескольким детям. А чтобы придать жизни какой-то смысл, он стал сочинять музыку.
Отныне его единственной целью, единственной страстью стала опера, которую он хотел написать.
6
Однако Иоганн Карельски не успел встать на новую жизненную стезю. За него все решила война, и случилось это в один из первых дней весны 1796 года.
Ему совсем недавно исполнился тридцать один год.
Ранним мартовским утром в мансарду на Монмартре, где он тогда жил, принесли повестку. На площадь тихо падал запоздалый снег. Казалось, время остановилось.
Почтарь поднялся на седьмой этаж и, тяжело дыша, остановился у двери музыканта. Словно бы с сожалением, он постучался. Иоганн открыл и по взгляду пришедшего понял, что тот принес плохую весть.
— Похоже, Франция нуждается в вас, — сообщил почтарь.
С некоторой нерешительностью он протянул повестку. Иоганн спокойно встретил его взгляд, взял пакет, распечатал. Прочтя, он побледнел, поднял глаза на вестника и сказал:
— Вы оказались правы. Она действительно нуждается во мне. Но что я могу ей предложить, кроме жизни?
Почтарь ответил сочувственной улыбкой, и Иоганн прочел в ней что-то наподобие сострадания. И оттого ощутил непонятную неловкость.
Через несколько минут Иоганн спустился в кафе, где уже сидели другие новобранцы, и многим из них не терпелось поскорей отправиться вместе с тем двадцативосьмилетним генералом, которого Баррас[1] посылал вести итальянскую кампанию. Они выпили по стаканчику абсента, потом по второму, по третьему, жадно лаская взглядом пышную грудь хозяйки кафе, которая наконец-то стала смотреть на них как на мужчин.
— За Бонапарта!
— За Бонапарта!
— За Итальянскую армию!
Иоганн не стал предлагать тост. Он ограничился тем, что выпил вместе со всеми, после чего откланялся и поднялся к себе.
У себя в комнате он долго разглядывал те несколько вещиц, что остались после матери, попытался перебирать вспоминания, но ему стало так грустно, что он бросился на кровать, и очень скоро усталость и выпитое сморили его, и он заснул.
Когда он проснулся, день уже клонился к концу. На Париж опускались сумерки, в окнах загорались огни. Все было тихо и спокойно.
Иоганн достал из футляра скрипку, натер канифолью смычок и заиграл. Чудесная музыка напомнила ему былые успехи и былое великолепие.
Он знал, что жизнь его кончилась. На войне у него не будет досуга, чтобы следовать своей страсти. И он никогда не напишет задуманную оперу.
Ему был тридцать один год, он был переполнен мечтами и замыслами. Но война сделала выбор за него.
7
В Ницце, где Бонапарт назначил сборный пункт для своей армии, Иоганн Карельски распрощался с музыкой, славой, успехами. В эти тревожные времена искусство довольно долго удерживало его вдали от войны. Но на сей раз она его настигла.
По замыслу полководца, война эта должна была стать форсированным маршем на Вену. Первым делом следовало обойти Альпы.
2 апреля 1796 года армия выступила в поход. Итальянская кампания началась.
Но Италия не могла быть просто случайностью.
В этой стране родилась опера. Только этот сладостный, мелодичный язык способен был наилучшим образом передать всю красоту пения. Иоганн думал об этом с радостью, смешанной с печалью.
— Какое было бы счастье жить на этой земле!
Вот только пришел он в Италию не для того, чтобы жить; он здесь, чтобы умереть. Тут его ждет совсем другая музыка. Военный марш, скомпонованный из стрельбы, канонады, крови и смерти.
8
Значит, вот что такое война? Непрекращающаяся бойня, раненые и убитые вокруг, постоянный привкус грязи и крови во рту? Оборванные, грязные, вонючие солдаты, у которых не осталось ни хлеба, ни души? И этот оглушающий грохот, от которого чуть ли не лопаются барабанные перепонки, так что едва сдерживаешься, чтобы не заорать от боли?
Куда подевалась музыка, совсем еще недавно баюкавшая жизнь звуками его скрипки? Неужто же война — это всепожирающая, вечно ненасытная пасть?
Но его война продолжалась всего четырнадцать дней. 16 апреля в самом начале сражения при Монтенотте Иоганн был тяжело ранен. Он наступал в первой линии, и австрийский гусар вонзил ему в правый бок саблю. В тот же миг самого гусара поразила случайная пуля, и он выпустил клинок, который остался торчать в боку Иоганна. Уставившись тускнеющим взглядом в глаза того, кого он собирался убить, австрияк вцепился в Иоганна, жутко захрипел и медленно сполз с лошади на землю. Иоганн тоже рухнул наземь и потерял сознание.
Сражение вскоре закончилось, стрельба, пушечные залпы и звон оружия сменились тишиной.
Иоганн пришел в себя ночью. Поле битвы накрывал туман, и лишь иногда сквозь него пробивалась луна, рождая пугающие тени. Иоганн попробовал встать, но попытка эта отдалась жестокой режущей болью в паху. Сабля, пронзившая его насквозь, никуда не делась, и ее эфес возвышался у него над животом, словно крест, наспех поставленный над павшим. При любом движении, даже от пробегавшей по телу дрожи, лезвие все глубже и глубже входило в рану. От пронзительного холода кровь запеклась, и кровотечение остановилось. Однако стоит пошевелиться, и рана откроется, а это чревато смертоносной потерей крови.
Иоганн понимал: настал его смертный час Противиться бесполезно. Он в последний раз оглядел ужасное это поле, на котором мертвецы отплясывали вокруг него недвижную пляску смерти. Австрияк по-прежнему был рядом и по-прежнему безнадежно тянул руку к выпущенной сабле, и он так оскалился, словно смеялся над смертью. Справа на валуне лежал улан со вспоротым животом, несколькими шагами дальше валялся на боку его конь, и в ноздрях у него еще была пена после бешеной скачки. А слева на ветви дерева висела половина трупа пехотинца, которого разорвало пополам пушечное ядро. И все это дополнялось золой, столбами дыма, развороченными фурами, брошенным оружием, частями человеческих тел.
Вдали санитары с носилками искали раненых, чтобы отнести их в лазарет. Но чаще всего лежащие на поле битвы не подавали признаков жизни.
Иоганн увидел, что санитары проходят в нескольких шагах от него. Он попытался позвать их, но не смог издать ни звука. Горло так пересохло, что казалось, будто вместо языка у него жесткий камень с привкусом крови.
Санитары прошли мимо, и опять настала тишина.
Иоганн в последний раз взглянул на луну, на эфес сабли, поблескивающий над животом, и закрыл глаза.
Вдруг он услышал неподалеку шорох, что-то наподобие шелеста ткани на ветру. Может, легкое дуновение шевельнуло полу мундира застреленного рядом гренадера? Или это просто дыхание смерти?
Он открыл глаза.
На него смотрела женщина. Наездница в длинном черном плаще. Она неподвижно стояла, держа за уздечку черную кобылу. Иоганн чувствовал, что незнакомка пристально разглядывает его. В темноте глаза ее блестели, как два золотистых огонька.
Как ей удалось бесшумно подойти к нему? Уж не легчайший ли шелест, выдавший ее присутствие, сделал ее реальностью? Иоганн почувствовал какое-то таинственное дуновение, исходящее от этой женщины.
А она стояла, все так же не шелохнувшись. Казалось, женщина эта пришла наблюдать его агонию.
Иоганн вздрогнул, но тут же подумал, что пугаться чего бы то ни было уже поздно.
А незнакомка привязала лошадь к дереву, достала фляжку, подошла к Иоганну, приподняла ему голову и стала поить.
Потом женщина запела — в этом апокалиптическом окружении, среди ужаса и смерти. И пела она таким чистым, таким завораживающим голосом, что Иоганн забыл и про свою рану, и про боль от нее. Она пела долго, быть может, даже всю ночь, и только ему одному.