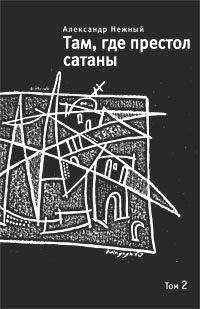– То есть как это?.. – растерянно озираясь, забормотал Сергей Павлович. – Зачем? Я, по-моему, не в армию…
– Тебе сказано – в ряды! – гаркнул генерал. – А в какие – мы определим. – Его шея раздулась. – Слушай мою команду! Пор-р-ртки снимай!
Сергей Павлович нехотя скинул туфли и остался в носках, из них один имел небольшую дыру, в которую выглядывал большой палец с утолщенным после перенесенного грибкового заболевания ногтем. Затем, страдая от учиненного над ним произвола и унижения, медленно расстегнул ремень, приспустил брюки и сначала выпростал из правой штанины правую ногу, а затем из штанины левой – ногу левую, и остался в трусах, именуемых в обиходе «семейными», то бишь сатиновыми, черными, почти достигающими колен, производство фабрики «Восход», город Жданов Украинской ССР.
– Р-ру-убаху! Майку! Тр-р-усы!
Минуту спустя Сергей Павлович стоял перед тремя незнакомыми и малосимпатичными людьми в чем мать родила, прикрывал срам руками и переминался с ноги на ногу. Три пары глаз изучали его телосложение.
– Хиляк, – презрительно обронил генерал. – У меня рука, как у него нога. Во! – и он закатал рукав гимнастерки, явив всем поросшую рыжеватыми волосами мощную десницу. – Спортом, небось, не занимался. Все больше в литрбол и по бабам. Да ему ста метров с полной выкладкой не пробежать.
– В волейбол я играл, – голый Сергей Павлович обиделся.
– И в шахматы, – заржал генерал.
– Не будем обижать товарища, – вступился Кузьмич. – Сила духа нам важнее, чем физическая мощь. Силой духа что угодно можно будет превозмочь. Силой духа победили мы в семнадцатом году. Силой духа одолеем мы предателей орду. Глянь, Нинок, все ли у товарища в порядке с духоподъемной силой?
Встав из-за стола, Нинок приблизилась к доктору Боголюбову и провела по его груди и животу влажной ладошкой. Сергей Павлович отпрянул.
– Ну, ну! – прикрикнула она на него, будто на жеребчика, не желающего бегать под седлом. – Смирно стоять! Руки опустить!
– Не могу я… – простонал он.
– Товарищ! – Кузьмич нахмурился и строго постучал по краю столешницы пальцем.
И генерал погрозил Сергею Павловичу кулаком внушительных размеров.
– Ты у меня дедовщины целый бак выхлебаешь, сукин ты сын!
– Будет вам, товарищи. Совсем запугали бедного мальчика, – с фальшивой лаской в голосе сказала Нинок. – А ты их не бойся, – мурлыкала она, уже обеими ладонями путешествуя по нагому телу Сергея Павловича: от ключиц до низа живота, где замирала возле препятствия из его крепко сомкнутых рук. – Они люди добрые, честные, милые… Волосяной покров на груди весьма умеренный, что наводит на мысль о характере несколько женственном, слегка истеричном и во всяком случае легко возбудимом. Ты ведь быстро загораешься, ослик мой упрямый? И быстро остываешь? А крестик тебе зачем? Только не говори, что ты верующий… Это нелепо.
– Верую, – страдая от ее прикосновений, откликнулся Сергей Павлович, – потому что нелепо.
– Ах, какие мы умные! Какие образованные! Какие начитанные! Ай-яй-яй… Ты, верно, думаешь, мы тут понятия не имеем про все эти махровые идеалистические штучки-дрючки? Ошибаешься. Ты человек нестойкий… А ну, опусти руки! – прикрикнула она, и доктор Боголюбов вынужден был открыть чертовой бабе и двум мужикам к ней в придачу свое скромное достояние. – Птенчик! – искренне восхитилась Нинок. – Бесподобный! Гляньте, гляньте, – призывала она товарищей разделить ее восхищение, – не велик, но и не мал…
– Игрушечка, – презрительно процедил генерал. – Вот у меня…
– Будет вам хвастать, товарищ, – урезонила его Нинок. – То у вас руки, как ноги, то другие члены тоже, наверно, как ваша нога. Скромнее надо быть, товарищ. Я, например, между вашим старым огурцом и его голубком, ни секунды не размышляя, выбрала бы голубка… птенчика… милую пташку… – Так она говорила, бережно, но настойчиво поглаживая и подергивая сокровенный уд Сергея Павловича. – Ну давай, голубок мой, давай! Не стесняйся. Порадуй нас твердостью убеждений. Устремленностью к цели. Похвальной прямотой жизни. Яви нам изначальную, несомненную и неоспоримую первичность материи. Подари подружке сладостное ощущение, которое крепит связь сознания с окружающим миром. Давай же, черт побери! – грубо закричала она и пребольно схватила в кулачок ядра доктора Боголюбова. – Ведет себя, – пожаловалась Нинок товарищам, – как презренный солипсист. Словно я для него не существую. Я тебе, – в гневе она топнула ногой, – не какой-нибудь условный знак, иероглиф или символ. Я хоть и копия, но неотличимая от имеющего быть в действительности моего подлинника.
– Всякий фидеизьм – не только вредоноснейший идеализьм, но и враг жизни, – назидательно молвил Кузьмич. – Мы это наблюдаем воочию. Воочию наблюдаем мы это. Фидеизьм, товарищи, есть основная причина невстанихи, о чем мы не устаем напоминать пролетариям всех стран. Полшестого – не наше время, товарищи. Пусть изнуренная пороками буржуазия с мучительным содроганием примет приговор истории, остановившей стрелки буржуазных часов на роковой отметке. На среднесрочную перспективу восполнения класса эксплуататоров не предвидится! Зато мужчина-рабочий и женщина – труженица полей соединятся в рамках ячейки государства для производства новых строителей коммунизьма. А вы, гражданин, – с негодованием обратился он к Сергею Павловичу, – основательно подгнили. Попортились. Протухли. От вас за версту несет поповщиной. Товарищи! Кто за то, чтобы отклонить заявление Боголюбова Эс Пэ о вступлении в наши ряды?
– Я его, паскудника, в армию сдам, – и генерал утвердил на столе согнутую в локте правую руку. – Будет этот Сукинзон сортиры чистить!
– Докатился, – презрительно сказала Нинок, вытирая ладони кружевным платочком. – Уж я ли не старалась разъяснить ему, что критерием истины может быть только практика! Вы, товарищи, наблюдали за моей титанической борьбой с его постыдным бессилием. Был он солидарен со мной? Старался преодолеть свой пагубный недостаток? Предложил скрепить наши отношения классовой близостью? Сообщил о своем искреннем раскаянии в допущенных ошибках, поставивших его на грань позорнейшего из падений? Безвозвратно погубивший себя идейной мастурбацией, нестойкий и мягкотелый, не обладающий достойной твердостью и похвальной прямотой борца за наше правое дело, он, товарищи, как негодный член, должен быть отсечен немедля и навсегда.
– Я эту падаль! – взревел генерал, устремляясь на Сергея Павловича с кинжалом бойца ВДВ, лезвие которого – с ужасом заметил доктор – было в бурых пятнах засохшей крови.
– По сигналу! Только по сигналу, товарищ! Никакой анархии! Никакой… как ее… хрус… стекло… стеклотарной или… как там ее… ва… вальпур… вальпургеновой ночи! – И Кузьмич принялся изо всей силы трясти неведомо как возникшим в его руке медным колокольчиком с ясно видной на нем надписью: «Москва – Третий Рим».
Сергей Павлович незамедлительно ударился в бег от свирепого воина, грозившего сначала оскопить его, а затем обрезать ему по самое основание.
– У меня свадьба! – задыхаясь и слабея, кричал он. – Невеста у меня… Кто вам дал право?
– В борьбе обретем мы право свое! – пронзительно вопила Нинок и науськивала генерала. – Держи! Хватай! Бей! Режь!
– Она лозунг украла! – стонал доктор Боголюбов. – Мерзкая… Отвратительная… У нее ладони потные. Я чуть не умер.
– Не бзди, счас помрешь, – на ходу обещал генерал.
С мертвящим холодом в груди Сергей Павлович ощутил исходящее от него псиное зловоние.
Болтался в руке Кузьмича колокольчик, звонок гремел, и Сергей Павлович, пробуждаясь, слышал три раздавшихся подряд настойчивых звонка, папино шарканье и его пробившееся сквозь кашель сиплое, но гневливое вопрошание: «Кого… среди ночи… черти… несут?» Сдавленный женский голос ответил ему из-за двери. Тихо матерясь, Павел Петрович откинул цепочку и повернул ключ. Первая мысль Сергея Павловича была об Ане. С ней что-то случилось, и она прислала звать его на помощь. Он поспешно стянул со спинки стула брюки, всунул в них ноги и, гадливо морщась, вспомнил, как стоял нагишом перед омерзительной троицей. Но спросим себя (как, страдая от горечи во рту и тоски на душе, обратился к себе Сергей Павлович): что есть наши сновидения? И ответим: наши сновидения есть тайное познание истинной сути переживаемого нами времени. И тогда же, в виду непроглядной за окном ночи, и возопим ко Господу: будет ли когда-нибудь, Всемилостивый, конец тому похабству, которое творится повсюду с Твоего произволения? Сгинут ли раз и навсегда, о Праведный, эти рожи, во сне и наяву оскорбляющие взор благородно мыслящего человека, рожи паскудные, рожи тупые, рожи угрюмые с глазами-гляделками и устами, изрыгающими всяческую хулу на Тебя и Твоих святых? Не пришла ли, Всемогущий, пора явить Тебе Твою волю и Твою силу и водами вселенского потопа очистить землю от угнездившейся в ней скверны? Но и ковчег не забудь в таком случае для сонма праведных с их бессердечными чадами, злобными домочадцами, брюхатыми кошками, кривоногими собачками, коврами, сервизами, телеками, видаками, тараканами и пыльным рядом пустых бутылок, опорожненных под затейливые пожелания страшной участи личным врагам. Да будет у них большая квартира, и да будет у них в каждой комнате и на кухне, и в сортире, и в ванной по телефону, и да не устанут они набирать по этим телефонам 01! 02!! 03!!! Ноль три, между тем, имело самое непосредственное отношение к Сергею Павловичу, ибо не посланница с тревожной вестью от Ани предстала перед ним, а супруга соседа, Бертольда-шакала, залитая слезами Кира. Папа рядом с ней слабыми старыми руками никак не мог совладать с пояском халата. Кира умоляла Сергея Павловича немедля оказать медицинскую помощь Бертольду, Берту, Бертику, лежащему недвижимо, имеющему лицо белее бумаги, чело в холодном поту, заострившийся нос и блуждающий взгляд.