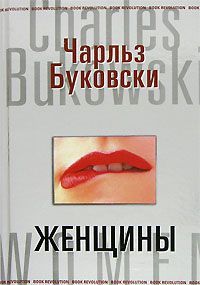– Ладно.
– Надо будет прийти ко мне. Студии у меня нет. Придется у меня дома. Ты ведь не будешь из-за этого нервничать, правда?
– Не буду.
Я записал ее адрес и как добраться.
– Постарайся подъехать часам к одиннадцати. После обеда дети из школы приходят, и это отвлекает.
– Буду в одиннадцать, – пообещал я.
Я сидел напротив Лидии в обеденном уголке. Между нами лежал крупный ком глины. Она принялась задавать вопросы.
– Твои родители еще живы?
– Нет.
– Тебе нравится Лос-Анджелес?
– Мой любимый город.
– Почему ты так пишешь о женщинах?
– Как – так?
– Сам знаешь.
– Нет, не знаю.
– Ну, я думаю, жалко, если человек, который пишет так хорошо, просто ни черта не знает о женщинах.
Я ничего не ответил.
– Черт возьми! Куда Лиза девала?… – Она стала шарить по комнате. – Ох мне эти девчонки, вечно убегают с маминым инструментом!
Нашелся другой.
– Приспособим вот этот. Посиди спокойно теперь, расслабься, но не шевелись.
Я сидел к ней лицом. Она работала над комом глины какой-то деревянной штукой с проволочной петлей на конце. Помахала мне ею из-за кома. Я наблюдал. Глаза Лидии смотрели на меня. Большие, темно-карие. Даже ее плохой глаз – тот, что не совсем подходил к другому, – выглядел здорово. Я тоже смотрел на нее. Лидия работала. Шло время. Я был в трансе. Потом она сказала:
– Как насчет прерваться? Пива хочешь?
– Прекрасно. Да.
Когда она двинулась к холодильнику, я пошел следом. Она вытащила бутылку и захлопнула дверцу. Стоило ей повернуться, я схватил ее за талию и притянул к себе. Я прильнул к ней ртом и телом. Бутылку с пивом она держала в вытянутой руке, на отлете.
Я поцеловал Лидию. Потом поцеловал еще раз. Она оттолкнула меня.
– Ладно, – сказала она, – хватит. Работать пора.
Мы снова сели, я допивал пиво, Лидия курила сигарету, а глина лежала между нами. Звякнул дверной звонок. Лидия поднялась. Там стояла толстая тетка с неистовыми, умоляющими глазами.
– Это моя сестра, Глендолина.
– Здрасьте.
Глендолина подтащила стул и заговорила. Говорить она умела. Она б говорила, если б даже стала сфинксом, если б даже стала камнем, она бы говорила. Я просто не знал, когда она устанет и уйдет. Даже когда я перестал слушать, похоже было, что меня избивали крохотными шариками от пинг-понга. Глендолина не имела ни представления о времени, ни малейшего понятия о том, что, быть может, помешала нам. Она все говорила и говорила.
– Послушайте, – сказал я наконец, – когда вы уйдете?
И тут начался сестринский спектакль. Они заговорили между собой. Обе стояли, размахивая руками друг у друга перед носом. Голоса набирали пронзительности. Обе грозили друг другу физическими увечьями. Напоследок – когда уже замаячил конец света – Глендолина совершила гигантский изгиб торсом, выбросилась в дверной проем сквозь оглушительный хлопок летней двери и пропала из виду. Но мы по-прежнему слышали ее, заведенную и стенавшую, до самой ее квартиры в глубине двора.
Мы с Лидией вернулись в обеденный уголок и сели. Она взялась за инструмент. Глаза ее заглянули в мои.
Однажды утром, несколько дней спустя, я вошел к Лидии во двор, когда сама она появилась из переулка. Она сидела у своей подруги Тины, жившей в многоквартирном доме на углу. Выглядела она в то утро электрически, почти как в первый раз, когда пришла ко мне с апельсином.
– У-у-у-у, – сказала она, – у тебя новая рубашка!
Так оно и было. Я купил себе рубашку, потому что думал о Лидии, о том, как увижу ее. Я знал, что она это знает и посмеивается надо мной, но не возражал.
Лидия отперла дверь, и мы зашли внутрь. Глина сидела в центре стола в обеденном уголке под влажной тряпкой. Лидия стянула ткань.
– Что скажешь?
Она меня не пощадила. И шрамы были, и нос алкаша, и обезьянья пасть, и сощуренные до щелочек глаза – и тупая довольная ухмылка тоже была на месте, ухмылка счастливца, нелепого: словил удачу и еще не понял, за что. Ей 30, мне – за 50. Наплевать.
– Да, – сказал я, – здорово ты меня. Мне нравится. Но, похоже, ты ее почти закончила. Мне будет тоскливо, когда ты все сделаешь. У нас с тобой было несколько великолепных дней и утр.
– Это помешало твоей работе?
– Нет, я пишу, лишь когда стемнеет. Днем никогда не могу писать.
Лидия взяла свой отделочный инструмент и посмотрела на меня:
– Не волнуйся. Мне еще много. Я хочу, чтобы на этот раз все получилось, как надо.
В первом перерыве она достала из холодильника пинту виски.
– А-а, – сказал я.
– Сколько? – спросила она, подняв высокий стакан для воды.
– Напополам.
Она смешала, и я сразу же выпил.
– Я слыхала о тебе, – сказала она.
– Что, например?
– Как ты скидываешь мужиков со своего парадного крыльца. И бьешь своих женщин.
– Бью своих женщин?
– Да, мне кто-то говорил.
Я схватил Лидию, и мы провалились в самый долгий поцелуй за все это время. Я прижал ее к краю раковины и начал тереться об нее хуем. Она оттолкнула меня, но я снова поймал ее на середине кухни.
Рука Лидии схватила мою и втолкнула ее за пояс джинсов в трусики. Кончиком пальца я нащупал маковку ее пизды. Та была влажной. Продолжая целовать ее, я пробирался пальцем поглубже. Потом вытащил руку, оторвался от нее, дотянулся до пинты и налил еще. Снова сел за кухонный столик, а Лидия обогнула его с другой стороны, тоже села и посмотрела на меня. Затем опять принялась за глину. Я медленно тянул виски.
– Слушай, – сказал я. – Я знаю, в чем твоя трагедия.
– Что?
– Я знаю, в чем твоя трагедия.
– Что ты имеешь в виду?
– Ладно, – ответил я. – Забудь.
– Я хочу знать.
– Я не хочу оскорблять твои чувства.
– Но я хочу знать, что ты мелешь.
– Ладно, если еще нальешь, скажу.
– Хорошо. – Лидия взяла пустой стакан и налила половину виски и половину воды. Я снова все выпил. – Ну? – спросила она.
– Черт, да ты сама знаешь.
– Что знаю?
– У тебя большая пизда. – Что?!
– Это не редкость. У тебя двое детей.
Лидия сидела, молча ковыряя глину. Затем отложила инструмент. Отошла в угол кухни рядом с черным ходом. Я смотрел, как она наклоняется и стаскивает сапоги. Потом стянула джинсы и трусики. Пизда ее была на месте, смотрела прямо на меня.
– Ладно, подонок, – сказала она. – Сейчас я тебе покажу, что ты ошибся.
Я снял ботинки, штаны и трусы, встал на колени на линолеум, а потом опустился на нее, весь вытянулся. Начал целовать. Отвердел я быстро и почувствовал, как проникаю внутрь.
Я начал толчки… один, два, три…
В переднюю дверь постучали. Детский стук – крохотные кулачки, яростные, настойчивые. Лидия быстро спихнула меня.
– Это Лиза! Она не ходила сегодня в школу! Она была у… – Лидия вскочила и принялась натягивать одежду. – Одевайся! – приказала она.
Я оделся, как мог, быстро. Лидия подошла к двери – там стояла ее пятилетняя дочь:
– МАМА! МАМА! Я порезала пальчик!
Я забрел в переднюю комнату. Лидия посадила Лизу себе на колени.
– У-у-у-у, дай мамочке посмотреть. У-у-у-у, дай мамочке поцеловать тебе пальчик. Мамочка сейчас его вылечит!
– МАМА, больно!
Я взглянул на порез. Тот был почти невидим.
– Слушай, – наконец сказал я Лидии, – увидимся завтра.
– Мне жаль, – ответила она.
– Я знаю.
Лиза подняла на меня глаза, слезы всё капали и капали.
– Лиза никому не даст мамочку в обиду, – сказала Лидия.
Я открыл дверь, закрыл дверь и пошел к своему «меркурию-комете» 1962 года.
В то время я редактировал небольшой журнальчик, «Слабительный подход». У меня имелось два соредактора, и мы считали, что печатаем лучших поэтов своего времени. А также кое-кого из иных. Одним редактором был недоразвитый студент-недоучка Кеннет Маллох 6-с-хвостиком футов росту (черный), которого содержала отчасти его мать, а отчасти – сестра. Другим был Сэмми Левинсон (еврей), 27 лет, живший с родителями, которые его и содержали.
Листы уже отпечатали. Теперь предстояло сброшюровать их и скрепить с обложками.
– Ты вот что сделаешь, – сказал Сэмми. – Ты устроишь брошюровочную пьянку. Будешь подавать напитки и немного трепа, а они пускай работают.
– Ненавижу пьянки, – сказал я.
– Приглашать буду я, – сказал Сэмми.
– Хорошо, – согласился я и пригласил Лидию.
В вечер пьянки Сэмми приехал с уже сброшюрованным журналом. Он был парнем нервного склада, у него подергивалась голова, и он не мог дождаться, когда же увидит напечатанными собственные стихи. Он сброшюровал «Слабительный подход» сам, а потом присобачил обложки. Кеннета Маллоха нигде не нашли: вероятно, либо он сидел в тюрьме, либо его упекли в дурдом.