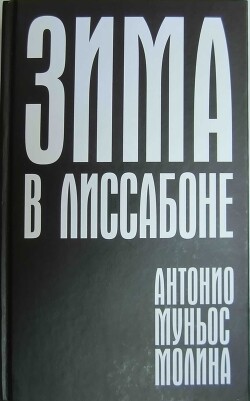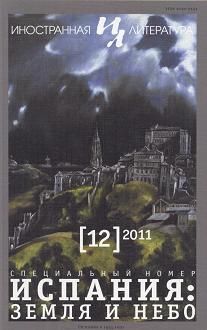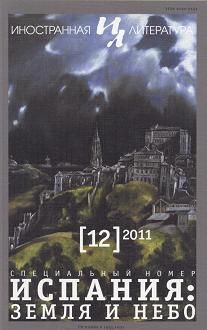Независимо от удаленности во времени что-то вспоминать легко, а что-то — трудно; воспоминание о «Леди Бёрд» будто ускользало от меня. На фоне яркого света, зеркал, мраморных столиков и гладких стен «Метрополитано» (все это, я полагаю, воспроизводило интерьер обеденного зала в каком-нибудь провинциальном отеле) «Леди Бёрд», этот подвальчик со сводчатым кирпичным потолком, погруженный в розоватый полумрак, казался мне теперь несуразным анахронизмом — местом, про которое сложно даже вообразить, что там я когда-то бывал. Этот бар располагался совсем рядом с морем, и стоило только выйти за дверь, как музыка растворялась в шуме волн, разбивающихся о «Гребень ветров» [3]. И тут я вспомнил: в сознании всплыли блестящая в темноте морская пена и соленый бриз, — и я понял, что та давняя ночь откровений и сухого мартини завершилась именно в «Леди Бёрд» и что это была моя последняя встреча с Сантьяго Биральбо.
— Но музыкант-то знает, что прошлого не существует, — произнес он вдруг, будто опровергая мысль, которую я еще не успел высказать. — Художники и писатели только и делают, что навьючиваются прошлым — картинами, словами. А музыканта всегда окружает пустота. Музыка перестает существовать в тот самый миг, когда прекращаешь играть. Это чистое настоящее.
— Но ведь остаются записи. — Я был не совсем уверен, что понимаю его, и еще меньше — в правоте собственных слов, но выпитое пиво пробудило во мне дух противоречия.
Он с любопытством взглянул на меня и ответил улыбаясь:
— Я записал кое-что с Билли Сваном. Но записи ничего не стоят. Если в них и есть что-то — только запечатленное настоящее, да и то, если они хоть немного живые. Но они почти все мертвы. Тут то же, что с фотографиями. Со временем оказывается, что на них одни незнакомцы. Поэтому я и не люблю хранить их.
Пару месяцев спустя я узнал, что несколько фотографий он все-таки хранил, но было ясно, что этот факт никак не противоречит его нелюбви к прошлому, а скорее укрепляет ее — косвенно, и даже немного мстительно, как несчастье или боль укрепляет желание жить, как тишина, сказал бы он, укрепляет правду музыки.
Нечто подобное я слышал от него однажды в Сан-Себастьяне, но теперь он уже не был так склонен к высокопарным утверждениям. Прежде, еще играя в «Леди Бёрд», он трепетал перед музыкой, как влюбленный, всецело отдающийся во власть высшей страсти — во власть женщины, которая то благоволит к нему, то с презрением отвергает, и ему не дано понять, за что даровано или отнято счастье. В те времена я иногда замечал в Биральбо — в его походке, в жестах, во взгляде — невольную склонность к патетике. Прежде она зримо ощущалась; теперь, в «Метрополитано», мне показалось, она исчезла, будто была вычеркнута из его музыки, перестала сквозить в движениях. Теперь он смотрел в глаза и не косился на дверь, если она открывалась. Должно быть, я покраснел, когда светловолосая официантка заметила, что я за ней наблюдаю. Я подумал, что Биральбо спит с ней, и мне вспомнилась Лукреция — в тот единственный раз, когда я встретил ее на набережной одну и она спросила меня про Биральбо. Моросил дождь, мокрые волосы Лукреции были собраны в пучок, она попросила у меня закурить. Вид у нее был такой, какой бывает у гордеца, который пусть всего на минуту, но очень мучительно переступает через себя. Мы перекинулись парой слов, она попрощалась и бросила сигарету.
— Я больше не поддаюсь на шантаж счастьем, — сказал Биральбо после небольшой паузы, глядя в спину удаляющейся официантке. С того самого момента, как мы оказались рядом за стойкой «Мет-рополитано», я ждал, что он упомянет Лукрецию, и понял, что сейчас, не произнося ее имени, он говорит о ней. Он продолжал: — Ни счастьем, ни совершенством. Это все католические суеверия. Они въедаются в мозг вместе с катехизисом и песнями по радио.
Я сказал, что не понимаю его, — и в длинном зеркале по другую сторону стойки, мутном от дыма и алкогольного оцепенения, между рядами сверкающих бутылок увидел его обращенный ко мне взгляд и улыбку.
— Нет, ты понимаешь. Ты ведь наверняка тоже, проснувшись однажды утром, сообразил: чтобы чувствовать себя вполне живым, вовсе не нужно ни счастья, ни любви. Это огромное облегчение. И так просто — будто протянул руку и выключил радио.
— Наверное, просто смиряешься. — Я насторожился и перестал пить: испугался, что, если выпью еще, начну рассказывать Биральбо о своей жизни.
— Нет, не смиряешься, — сказал он так тихо, что гнев в его голосе стал почти незаметен. — Это еще одно католическое суеверие. Просто научаешься и начинаешь презирать.
Именно это с ним и произошло и изменило его: в глазах появился острый блеск дерзости и мудрости, холода, какой бывает в пустых помещениях, где явственно чувствуется чье-то скрытое присутствие. В эти два года он научился чему-то, быть может одной-единственной страшной истине, в которой заключен весь смысл его жизни и музыки, — научился одновременно и презирать, и выбирать, и играть на фортепиано с непринужденностью и иронией негра. Поэтому рядом со мной сидел теперь незнакомец; никто, даже Лукреция, не узнал бы его — менять имя и селиться в отеле было излишне.
Часа в два мы вышли на улицу, молчаливые и оцепенелые, покачиваясь с бесстыдством полночных выпивох. По дороге к отелю — он жил на Гран-Виа, недалеко от «Метрополитано», — Биральбо рассказывал, что теперь ему удается зарабатывать на жизнь только музыкой. Зарабатывать на жизнь, не имея постоянной работы и, в некотором смысле, бродяжничая. Он играл по большей части в мадридских клубах, иногда — в Барселоне, изредка наведывался в Копенгаген или Берлин, но не так часто, как в те времена, когда был жив Билли Сван. «Но нельзя же все время воспарять и жить одной только музыкой», — сказал Биральбо, повторяя давнишнее, из прошлых времен, выражение. Кроме всего прочего, он иногда записывался на студии, участвуя в создании пластинок, которых не мог себе простить и на которых, к счастью, не значилось его имени. «За это хорошо платят, — сказал он. — А когда выходишь оттуда, сразу забываешь все, что играл. Если по радио в какой-нибудь песне услышишь фортепиано — может, это я». И он улыбнулся, будто извиняясь перед самим собой. Нет, неправда, подумал я, никогда уже он не будет извиняться ни за что и ни перед кем. На Гран-Виа, в ледяном свете витрины «Телефоники», он отошел купить сигареты в уличном автомате. Я смотрел на его высокую фигуру: он шел, покачиваясь и спрятав руки в карманы длинного распахнутого пальто с поднятым воротником. Тут я понял, что в нем есть эта мощная притягательность, присущая тем, кто носит в себе историю, и тем, кто носит с собой револьвер. И это не пустое литературное сравнение: у него действительно была и история, и револьвер в кармане.
Глава II
В один из тех дней я купил пластинку Билли Свана, которую они записали вместе с Биральбо. Я уже говорил, что малочувствителен к музыке, но в этих мелодиях было нечто, глубоко меня трогавшее. Каждый раз, когда я их слушал, мне почти удавалось уловить это нечто, а потом оно все равно ускользало. В одной книге — я нашел ее в номере Биральбо среди бумаг и фотографий — я прочел, что Билли Сван был одним из величайших трубачей нашего века. Но когда я слушал эти песни, мне казалось, что он — единственный, что в мире, кроме него, никто и никогда не играл на трубе, что он стоит посреди пустыни или заброшенного города наедине с ее звуками. Изредка, в паре вещей, звучал и его собственный голос — голос то ли привидения, то ли мертвеца. За ним слышались таинственные звуки фортепиано Биральбо — «Дж. Долфина», как значилось на обложке. Две песни на пластинке были его, Биральбо, их названия — названия мест — напоминали женские имена: «Burma», «Lisboa» [4]. С ясностью сознания, которая накатывает, когда пьешь один, я спрашивал себя: каково это — любить женщину по имени Бирма, как сияли бы в темноте ее волосы, ее глаза? Потом я выключил музыку, взял плащ и зонт и отправился к Биральбо.