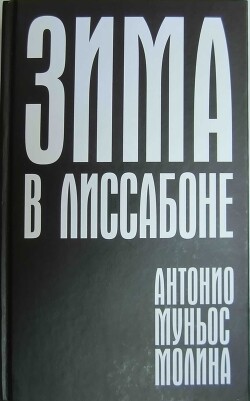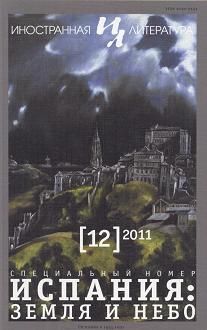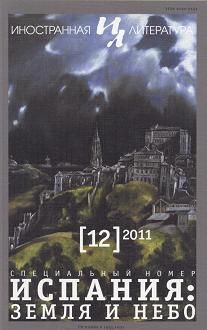Холл его отеля напоминал фойе одного из тех старых кинотеатров, которые так похожи на заброшенные храмы. Я спросил о Биральбо, но мне ответили, что постояльцев с таким именем в отеле нет. Тогда я описал его, назвал номер его комнаты — триста семь — и сказал, что он живет здесь уже около месяца. Портье — край воротничка обшитой галунами формы украшала жирная полоса — взглянул на меня то ли боязливо, то ли сообщнически и сказал: «Так вы имеете в виду сеньора Долфина!» Я чуть ли не с виноватым видом подтвердил это предположение; портье позвонил Биральбо в номер, но его там не оказалось. Посыльный, малый лет под сорок, сказал, что видел его в гостиной. И почтительно добавил, что сеньор Долфин всегда просит подавать ему кофе и ликеры туда.
Действительно, я нашел Биральбо в гостиной: он сидел, откинувшись на спинку потертого кожаного дивана (с обивкой сомнительного качества и происхождения), и смотрел телевизор. На столике дымились сигарета и чашка кофе. Биральбо сидел в пальто, будто ожидая поезда на вокзале. Окна пустынного зала выходили во внутренний двор, грязноватые занавески сгущали полумрак. В их складках синели декабрьские сумерки, как будто там, в мутной пустоте, ночь сулила возместить хоть часть потерь. Биральбо, казалось, окружающее было глубоко безразлично; он приветствовал меня радушной улыбкой, какой другие улыбаются только у себя дома. На стенах висели топорно намалеванные сцены охоты, а в глубине, под абстрактной мазней из тех, что можно принять за личное оскорбление, я различил очертания пианино. Потом я узнал, что Биральбо, как надежный постоялец, пользовался скромной привилегией репетировать по утрам на этом инструменте. Среди работников отеля ходили слухи, что сеньор Долфин — знаменитый музыкант.
Он сказал мне, что ему нравится жить в гостиницах средней руки. Что он, как свойственно многим одиноким людям, питает непреходящую и чуть болезненную нежность к бежевым коврам коридоров, к закрытым дверям, к неотвратимому росту номеров на них, к почти всегда пустым лифтам, в которых все же заметны следы пребывания таких же, как он, безымянных и одиноких людей: подпалины от окурков на полу, выцарапанные инициалы на алюминиевой двери, траченный дыханием невидимых постояльцев воздух. Биральбо часто возвращался после работы и ночной выпивки на рассвете или уже совсем утром, когда ночь непостижимым образом простирается дальше собственных границ. Он сказал, что больше всего любит тот странный утренний час, когда кажется, что, кроме тебя, в этих коридорах, да и во всей гостинице никого нет: этот шум пылесосов за закрытыми дверями, неизменное одиночество и наполняющее гордостью чувство ограбленного собственника, когда в девять утра подходишь к номеру, крутя между пальцев увесистый ключ и ощущая в кармане тяжелый брелок, как рукоять револьвера. В отелях, сказал он мне, никто никого не обманывает и не нужно выдумывать хитростей, чтобы врать самому себе о собственной жизни.
— Но Лукреция никогда бы не позволила мне жить в таком заведении, — сказал он, не знаю, в тот же или в другой день; кажется, тогда он впервые произнес имя Лукреции. — Она верила в дух места. Верила в старинные дома с буфетами и картинами, в кафе с зеркалами. Думаю, ей бы понравился «Мет-рополитано». Помнишь кафе «Вена» в Сан-Себастьяне? Вот в таких местах ей нравилось встречаться с друзьями. Она считала, что есть места изначально поэтические, а есть такие, в которых ни капли поэзии нет.
Он говорил о Лукреции иронично и отстраненно, так, как говорят иногда о самих себе, пытаясь создать прошлое. Я спросил о ней — он ответил, что не знает, где она теперь, и подозвал официанта, чтобы попросить еще кофе. Официант тихо подошел и бесшумно удалился с видом существа, смиренно переносящего дар невидимости. На экране чернобелого телевизора показывали какой-то конкурс. Биральбо иногда поглядывал туда, будто начав привыкать к преимуществам бескрайней терпимости. Он не располнел — скорее, стал больше и выше, пальто и неподвижность делали его крупнее.
Я много раз беседовал с ним в этой гостиной, но в моей памяти все эти встречи слились в один визит, долгий и сумбурный. Не помню, в первую ли нашу встречу там он пригласил меня подняться к себе в номер. Хотел что-то отдать мне на хранение.
Войдя в комнату, Биральбо зажег свет, хотя темно еще не было, а я раздвинул занавески на балконном окне. Внизу, на другой стороне улицы, на углу рядом с отделением «Телефоники» начинали собираться смуглые мужчины в наглухо застегнутых длинных куртках и одинокие накрашенные женщины. Они медленно прогуливались и останавливались, будто ждали кого-то, кто уже давно должен был бы прийти, — сизые тени, которые не продвигались вперед, но при этом ни на секунду не прекращали движение. Биральбо выглянул на улицу и задернул занавески. Свет в комнате был тусклый и мрачный. Биральбо извлек из шкафа, где покачивались пустые вешалки, большой чемодан, водрузил его на кровать. Из-за занавесок доносился шум машин и дождя, яростно барабанившего совсем рядом с нами — по навесу и по еще не горящей вывеске отеля. Я почувствовал запах зимы и сырость близящейся ночи и без ностальгии вспомнил Сан-Себастьян, хотя ностальгия — не худшее из испытаний расстоянием. В такую же ночь, очень поздно, почти на рассвете, мы с Биральбо, вдохновленные выпитым джином и освобожденные им ото всех грехов, шли запросто, без зонтов под спокойным и будто бы даже милосердным дождем, пахнущим водорослями и солью, настойчивым, как ласка, как знакомые улицы города, по которым мы ступали. Биральбо остановился под голыми ветвями тамариндов, подставил лицо под капли дождя и сказал: «Мне бы следовало быть негром, играть на фортепиано, как Телониус Монк, родиться в Мемфисе, в штате Теннесси, целовать сейчас Лукрецию, умереть».
Теперь я смотрел, как Биральбо склонился над кроватью, ища что-то в чемодане среди аккуратно сложенной одежды, и вдруг подумал — мне было видно отражение его сосредоточенного лица в зеркале шкафа, — что это и в самом деле другой человек, и я не уверен, что он лучше. Это длилось одно мгновение. Через секунду он обернулся ко мне — в руках стопка писем, перетянутая резинкой. Продолговатые конверты с красными и синими полосками авиапочты, на каждом необычный маленький штемпель. Имя Сантьяго Биральбо и его адрес в Сан-Себастьяне выведены фиолетовыми чернилами наклонным женским почерком. В левом верхнем углу только одна буква — «Л». Наверное, там было десятка два писем, может, чуть больше. Потом Биральбо сказал мне, что эта переписка длилась два года и прекратилась так внезапно, будто Лукреция умерла или ее вовсе никогда не существовало.
Впрочем, в то время ему самому казалось, что его не существует. Он как будто истачивался, сказал он мне, как будто его истончало трение о воздух, общение с людьми, пустота. Тогда он осознал всю нерасторопность времени в закрытых помещениях, куда никто не заходит, и упорство тления, веками работающего над тем, чтобы обезобразить картину или превратить в пыль каменную статую. Но об этом он рассказал через месяц или два после моего первого визита. Тогда мы снова сидели у него в комнате; рядом с ним лежал пистолет, и Биральбо то и дело вставал, чтобы выглянуть на улицу сквозь занавески, на которые синий отсвет бросала горевшая над навесом вывеска отеля. Он позвонил в «Метрополитано» и сказал, что болен. Сидя на кровати, при свете ночника, сухими, быстрыми движениями зарядил револьвер и взвел курок, не переставая курить и разговаривать со мной. Но не о том неподвижном человеке, которого он ожидал увидеть на другой стороне улицы, а о том, как тянется время, когда ничего не происходит, когда тратишь жизнь на ожидание письма или телефонного звонка.
— Возьми это, — сказал он в тот первый вечер, протягивая мне сверток и смотря не на него, а мне в глаза. — Храни эти письма в надежном месте, хотя я, может, никогда и не попрошу их вернуть.
Чуть-чуть отодвинув занавеску, он выглянул на улицу, высокий и спокойный в складках своего темного пальто. В сумерках влажный блеск капель дождя на мостовой и автомобилях сгущал одиночество города. Я положил письма в карман и сказал, что мне пора идти. Биральбо устало отошел от окна и, сев на кровать, стал хлопать себя по карманам пальто и искать что-то на ночном столике — никак не мог найти сигареты. Помнится, он всегда курил короткие американские, без фильтра. Я протянул ему свою сигарету. Он отрезал фильтр и лег, разминая ее большим и указательным пальцами. Комната была довольно тесная, и я неловко стоял у двери, не решаясь повторить, что ухожу. Наверное, в первый раз Биральбо меня не расслышал. Он курил, прикрыв глаза. Потом взглянул на меня, указывая на единственный в комнате стул. Мне вспомнилась та его песня, «Lisboa»: слушая ее, я представлял себе его в точности таким — медленно курившим в прозрачных сумерках, лежа на кровати в номере отеля. Я спросил, удалось ли ему побывать в Лиссабоне. Он рассмеялся и свернул подушку под головой.