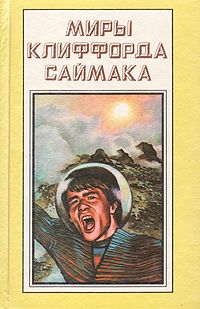— Ладно, ладно, ты со своими бумажками, понимаешь, подожди до завтра. Не отвлекай, понимаешь, людей!..
Стрелецкий с извиняющейся улыбкой поглядел на Валентина, которому почему-то снова вспомнилось про эпидидимис хряка.
— Видите, что получается, молодой коллега, — и он сокрушенно развел руками. — Но в общем-то, все основное вы высказали, не так ли? Что я могу вам сказать… Работайте, работайте. Мыслите вы вполне неплохо — это главное, а что касается увлечений э-э… слишком оригинальными гипотеза ми, то это… пройдет, пройдет… Все мы были молодыми, все через такое прошли, да…
За всю свою жизнь Валентин не оказывался в более дурацком и унизительном положении, как в тот момент, когда принялся собирать свои бумаги, изо всех сил стараясь при этом сохранить достоинство и спокойствие. Главный помог ему, а потом, уже спускаясь рядом по лестнице, сказал вполголоса:
— Ты вот что… зайди-ка завтра ко мне. Посоветуемся…
«…В чем же моя ошибка? Что я упустил, не учел?.. Двадцать три… двадцать четыре… двадцать пять… Или вовсе не во мне дело, а в Стрелецком? Маг структурной геологии… Самое главное, с его стороны так и не было никакого ответа, никакого возражения по существу!.. Двадцать девять… тридцать… А за вертолет-то меня взгреют крепко, ибо побежденных судят, и с большим притом удовольствием… Сорок четыре… Да, разговора не получилось… Вопрос: почему? Может, я показался ему, маститому ученому, просто-напросто нахальным мальчишкой? Но извините, ведь перед истиной-то мы все равны… Шестьдесят шесть… шестьдесят семь… Итак, член-корреспондент не снизошли до делового разговора. Но ведь что здесь характерно, товарищ член-корреспондент: тем самым вы показали свое неуважение отнюдь не ко мне, нет (за что же вам, в самом-то деле, вдруг уважать меня — не за явное же нахальство!), а показали вы неуважение к предмету разговора, вот что!.. Девяносто восемь… девяносто девять… И это, как ни странно, даже радует меня, потому что, если б вы опровергли меня в ходе серьезного разговора — вот тогда я действительно был бы убит, раздавлен, уничтожен. А так — дышать еще можно… Сто двадцать — стоп: двести!» Валентин замер как вкопанный, даже не поняв сначала, зачем он это сделал, однако миг спустя до него дошло, что он на ходу непроизвольно считал свои шаги, вернее, пары шагов, когда счет идет только под одну какую-либо ногу — левую или правую. Это было знакомо: во время маршрутов в закрытых районах, когда кругом лес и для привязки нет таких ориентиров, которые отмечены на карте и одновременно издалека видны на местности, приходится направление движения выдерживать строго по компасу, а пройденное расстояние отмерять шагами. И если это делать изо дня в день на протяжении полумесяца, месяца и более, то поневоле какой-то участочек мозга становится как бы спидометром, автоматически отсчитывающим каждый второй шаг. Валентин обычно вел счет под левую ногу. Сто двадцать пар его шагов по ровной местности составляли двести метров, что давно уже было выверено, но, поднимаясь в гору или спускаясь, приходилось, разумеется, вводить соответствующие поправки, зависящие от угла склона и тоже надежно выверенные. Все эти простейшие умственные операции: прикидка на глазок угла склона, выбор поправки, счет шагам и пересчет их в метры по ходу маршрута — к концу сезона настолько входили в привычку, что и после возвращения с полевых работ продолжали еще некоторое время сами по себе совершаться в мозгу…
Немного подождав на остановке, Валентин сел в трамвай. Пока расшатанные вагоны, гремя, как пустое ведро, и нестерпимо визжа на поворотах, тащились в заречную часть города, он дотошно перебрал в памяти весь разговор в гостинице и заключил, что в общем-то вся его затея была заранее обречена на неудачу. Но во всей неумолимо четкой последовательности случившегося было одно смутное место (именно тогда на какой-то миг Валентин был готов допустить возможность успеха) — момент, когда Стрелецкий, буквально окаменев, замер у окна. Валентин подсознательно ощутил некую важность этого мимолетного и как бы незначительного эпизода, однако же никакого разумного объяснения ему подыскать не мог…
Заверяя сегодня Лиханова и Ревякина, что с отцом все в порядке, он оба раза сказал неправду. С отцом вовсе не было все в порядке — отец его, Даниил Данилович, лежал сейчас в больнице с инфарктом, и третий звонок Валентина из аэропорта был именно туда — врачу Евгению Михайловичу, старому отцову приятелю.
Когда он, беспечно посвистывая, взбегал с сумкой через плечо на третий этаж, никто не поверил бы, что у этого молодого человека несчастье с отцом, что по важнейшим и давно выношенным надеждам его менее часа назад нанесен убийственный удар и что за вчерашний день и сегодняшнее утро он прошел пешком по тайге в общей сложности около восьмидесяти километров.
Открыв квартиру отца своим ключом, Валентин вошел в полутемную прихожую, огляделся… Здесь все оставалось таким же, как и во все предыдущие его приезды, — висели те же куртки, меховая и брезентовая, брезентовый же дождевик, пальто, плащ, стояли два вьючных ящика, сложенная раскладная койка, старое трюмо. И однако же в безмолвии и прохладе квартиры улавливалось что-то новое, нежилое, приводящее на память образ забытой пыльной бутылки, в которой тусклая вода мертво стоит над белесым ватным осадком.
Валентин немного помедлил в окружении знакомых предметов, потом, отчего-то стараясь ступать бесшумно, сделал пару шагов и открыл следующую дверь. Квартира была однокомнатная, старого образца: прямо — просторная кухня, налево — завешанный плотной материей широкий проем в обширную комнату с высоченным потолком, где тоже все до мелочей знакомо и не менялось годами, — диван, два кресла, письменный стол, книжный шкаф, кровать, полускрытая шифоньером, в углу телевизор. Валентин откинул портьеру, шагнул и… на миг оторопел. Да и кто не оторопел бы, увидев посреди нормальной жилой комнаты брезентовую двухместную палатку. Основательно выгоревшая, кое-где запачканная, заштопанная — словом, самая обыкновенная, здесь, в городской квартире, она выглядела не то смешно, не то жутковато, а в общем же — до дикости не к месту. Поставлена она была по всем правилам, без единой морщинки, и в этом чувствовалась опытная рука. В первый момент Валентин решил, что отец эту палатку собирался чинить, для чего и натянул ее на каркас. Но, подойдя и заглянув в нее, он лишь пожал плечами — внутри лежали спальный мешок с чистым вкладышем, подушка, книги, аккумуляторный фонарь, и было видно, что всем этим регулярно пользовались. Явилась было мысль, что у отца вовсе не инфаркт, а какое-нибудь психическое заболевание, и это прискорбное обстоятельство друзья милосердно скрыли от сына. Однако догадку эту Валентин тотчас задвинул подальше, предпочтя успокоительное «чудит батя», безотчетно заслоняясь этим от инстинктивного предчувствования горестных признаков одинокой родительской старости.
Неожиданно резко среди тишины протрещал телефонный звонок. Валентин невольно вздрогнул, дождался повторного звонка и взял трубку.
— Валя? — это был Евгений Михайлович. — Вот и славно, что ты дома. Слушай, я давеча как-то не сообразил… Тебе, наверно, скучно одному-то в квартире, а? Приходи к нам ужинать… прямо вот сейчас, а?
— Спасибо, Евгений Михайлович, — Валентин, пятясь, отступил к дивану, сел. — Возможно, ко мне заглянут товарищи…
Это была отговорка — Валентин никого не ждал. Просто ему хотелось побыть одному, привести в порядок взбаламученные мысли и подумать, что делать дальше.
Над дальними хребтами, за еле отсюда видимым аэропортом медленно угасала заря. Снизу, со двора, доносился по-вечернему веселый галдеж детворы. Урчали где-то машины. Город жил своей многообразной, безостановочной и полнокровной жизнью, и лишь вот эта квартира казалась выпавшей из общего потока.
Вздохнув, Валентин отвел глаза от окна, и взгляд его привычно обратился к висящему над столом портрету матери, увеличенному с какой-то давней любительской фотографии. Совсем молоденькая женщина. Красивая, ничего не скажешь. Кожаная тужурка, на голове — косынка (наверняка красная — такова была тогдашняя мода… Впрочем, нет, то не мода, а нечто большее — часть образа жизни и мысли). Комсомолка тридцатых годов. Геологиня исторического довоенного поколения. Валентину доводилось читать отчеты, написанные при ее участии. Видел он и карты, схемы, составленные и вычерченные лично ею (помнится, он обратил тогда внимание на полудетский ее почерк). Еще до недавних пор исследователи ссылались иногда на ее наблюдения и выводы…
Вечерняя краснота слиняла с неба, и за окном засинели сумерки. Валентин встал, бесцельно прошелся по комнате. Присел к письменному столу и включил свет. Тут тоже все было знакомое — пепельница, письменный прибор с массивным пресс-папье, стаканчик для карандашей, старинная рихтеровская готовальня, тяжелый геодезический транспортир в подбитом бархатом футляре, курвиметр, большая лупа. Все это пребывало здесь неизменно, в раз и навсегда установленном порядке. Менялись только книги да рукописные и графические материалы.